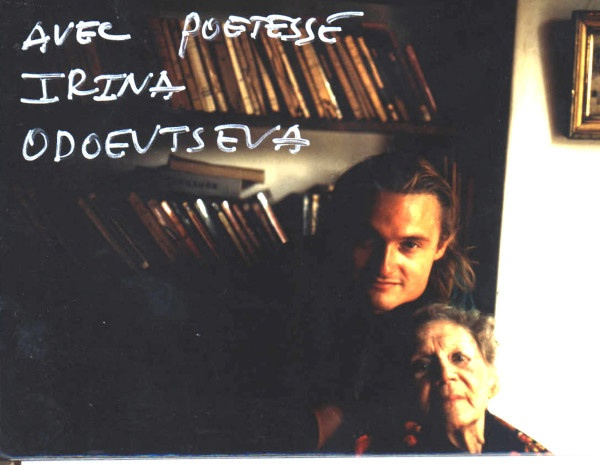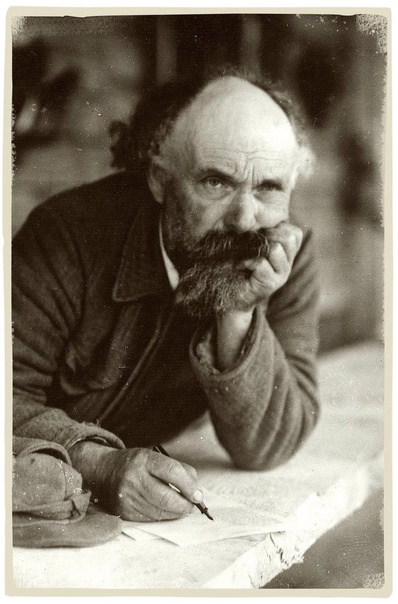Другие записи сообщества
— Каюсь: прозвище «декольтированная лошадь» надолго с того вечера утвердилось за юношей... А юноша этот был Владимир Маяковский. Это было его первое появление в литературной среде или одно из первых. С тех пор лошадиной поступью прошел он по русской литературе — и ныне, сдается мне, стоит уже при конце своего пути. Пятнадцать лет — лошадиный век. <...>
Маяковский быстро сообразил, что заумная поэзия — белка в колесе. Для практического человека, каким он был, в отличие от полоумного визионера Хлебникова, тупого теоретика Кручёных и несчастного шута Бурлюка, — в «зауми» делать было нечего. И вот, не теоретизируя вслух, не высказываясь прямо, Маяковский без лишних рассуждений, на практике своих стихов подменил борьбу с содержанием (со всяким содержанием) — огрублением содержания. По отношению к руководящей идее группы это было полнейшей изменой, поворотом на сто восемьдесят градусов. <...>
«Маяковский — поэт рабочего класса». Вздор. Был и остался поэтом подонков, бездельников, босяков просто и «босяков духовных». <...> Пафос погрома и мордобоя — вот истинный пафос Маяковского.
Владислав Ходасевич
«Декольтированная лошадь» (1927)
Зима приближается. Сызнова
Какой-нибудь угол медвежий
Под слезы ребенка капризного
Исчезнет в грязи непроезжей.
Домишки в озерах очутятся.
Над ними закурятся трубы.
B холодных объятьях распутицы
Сойдутся к огню жизнелюбы.
Обители севера строгого,
Накрытые небом, как крышей!
На вас, захолустные логова,
Написано: «Сим победиши» .
Люблю вас, далекие пристани
В провинции или деревне.
Чем книга чернее и листанней,
Тем прелесть ее задушевней.
Обозы тяжелые двигая,
Раскинувши нив алфавиты,
Вы с детства любимою книгою
Как бы на середке открыты.
И вдруг она пишется заново
Ближайшею первой метелью,
Bся в росчерках полоза санного
И белая, как рукоделье.
Октябрь серебристо-ореховый.
Блеск заморозков оловянный.
Осенние сумерки Чехова,
Чайковского и Левитана.
Борис Пастернак
Октябрь 1943
Я, я, я. Что за дикое слово!
Неужели вон тот - это я?
Разве мама любила такого,
Желто-серого, полуседого
И всезнающего, как змея?
Разве мальчик, в Останкине летом
Танцевавший на дачных балах, -
Это я, тот, кто каждым ответом
Желторотым внушает поэтам
Отвращение, злобу и страх?
Разве тот, кто в полночные споры
Всю мальчишечью вкладывал прыть, -
Это я, тот же самый, который
На трагические разговоры
Научился молчать и шутить?
Впрочем - так и всегда на средине
Рокового земного пути:
От ничтожной причины - к причине,
А глядишь - заплутался в пустыне,
И своих же следов не найти.
Да, меня не пантера прыжками
На парижский чердак загнала.
И Виргилия нет за плечами -
Только есть одиночество - в раме
Говорящего правду стекла.
___
Владислав Ходасевич
18-23 июля 1924 года, Париж
Александр Васильев об Ирине Одоевцевой
Ирина Одоевцева являлась одним из последних заметных литераторов Серебряного века, которых мне удалось застать в Париже. Она жила в доме №3 на улице Касабланка в 15-м квартале Парижа, из-за нужды сдавая две комнаты из принадлежавших ей четырех. ⠀
⠀ Одоевцева обожала гостей, часто устраивала чаепития. Чай разливался в красивые чашечки, кто-то из гостей обязательно приносил с собой торт, а хозяйка, кутаясь в павлопосадскую шаль, рассказывала о Гумилеве, с которым ее связывали романтические отношения, о жизни в Париже и Риге. В Риге Одоевцева прожила довольно долго – до 1930-х годов. Ее отец владел доходным домом, находившимся в районе Маскачка. Этот дом существует и сегодня. ⠀
⠀ В молодости Ирина Владимировна очень любила наряжаться. С годами желание выглядеть привлекательно не пропало. Не имея средств на парикмахера, она приобрела себе паричок. Этот паричок выполнял двойную функцию – делал ее элегантнее и служил сейфом. Под париком Одоевцева прятала деньги, полученные у жильцов. ⠀
⠀ Однажды Ирина Владимировна решила подписать мне свою книгу. «Я напишу так! – сказала она. – Дорогому Сашеньке Васильеву на добрую память от любящей его Ирины Одоевцевой!». Но так как Одоевцева страдала артритом, то сложности возникли с написанием первой же буквы «Д». Тогда я предложил: «Давайте покороче! Дорогому Александру Васильеву от Ирины Одоевцевой!». Ирина Владимировна поддержала мою идею. Но, подумав, спросила: «Может, еще сократим?». В итоге книгу украсила надпись «Саше от Иры». ⠀
⠀ Надумав на исходе жизни вернуться в Ленинград, Одоевцева решила распродать свое имущество. Я приобрел ее печатную машинку «Ундервуд», которую передал в музей Ахматовой в Петербурге. Также ко мне перешел комод и две витрины красного дерева. В нижнем ящике комода, уже после отъезда Ирины Владимировны из Парижа, я обнаружил рукописи ее не изданных стихов. ⠀
Памяти Пастернака
«… правление Литературного Фонда СССР извещает
о смерти писателя, члена Литфонда, Бориса
Леонидовича Пастернака, последовавшей
30 мая сего года, на 71-ом году жизни, после
тяжелой и продолжительной болезни, и выражает
соболезнование семье покойного».
(Единственное, появившееся в газетах, вернее,
в одной — «Литературной газете», — сообщение
о смерти Б.Л. Пастернака).
Разобрали венки на веники,
На полчасика погрустнели…
Как гордимся мы, современники,
Что он умер в своей постели!
И терзали Шопена лабухи,
И торжественно шло прощанье…
Он не мылил петли в Елабуге
И с ума не сходил в Сучане!
Даже киевские письмэнники
На поминки его поспели.
Как гордимся мы, современники,
Что он умер в своей постели!..
И не то чтобы с чем-то за сорок —
Ровно семьдесят, возраст смертный.
И не просто какой-то пасынок —
Член Литфонда, усопший сметный!
Ах, осыпались лапы елочьи,
Отзвенели его метели…
До чего ж мы гордимся, сволочи,
Что он умер в своей постели!
«Мело, мело по всей земле
Во все пределы.
Свеча горела на столе,
Свеча горела…»
Нет, никакая не свеча —
Горела люстра!
Очки на морде палача
Сверкали шустро!
А зал зевал, а зал скучал —
Мели, Емеля!
Ведь не в тюрьму и не в Сучан,
Не к высшей мере!
И не к терновому венцу
Колесованьем,
А как поленом по лицу —
Голосованьем!
И кто-то, спьяну, вопрошал:
— За что? Кого там?
И кто-то жрал, и кто-то ржал
Над анекдотом…
Мы не забудем этот смех
И эту скуку!
Мы — поимённо! — вспомним всех,
Кто поднял руку!..
«Гул затих. Я вышел на подмостки.
Прислонясь к дверному косяку…»
Вот и смолкли клевета и споры,
Словно взят у вечности отгул…
А над гробом встали мародёры
И несут почётный ка-ра-ул!
Александр Галич
1966 г.
Лают бешено собаки
В затухающую даль,
Я пришел к вам в черном фраке,
Элегантный, как рояль.
Было холодно и мокро,
Жались тени по углам,
Проливали слезы стекла,
Как герои мелодрам.
Вы сидели на диване,
Походили на портрет.
Молча я сжимал в кармане
Леденящий пистолет.
Расположен книзу дулом
Сквозь карман он мог стрелять,
Я все думал, думал, думал —
Убивать, не убивать?
И от сырости осенней
Дрожи я сдержать не мог,
Вы упали на колени
У моих красивых ног.
Выстрел, дым, сверкнуло пламя,
Ничего уже не жаль.
Я лежал к дверям ногами —
Элегантный, как рояль.
___
Геннадий Шпаликов
Когда мы с моей парижской невестой (1902 г.) подошли к вопросу о разрешении любви нашей браком, она сказала: «Тебе не кажется сейчас так, что мы жили, протестуя избитым мнениям наших старших, а теперь оказывается, они были правы». Я поглядел на нее искоса, и вдруг на какие-то минуты чары влюбленности оставили меня, и я увидел обыкновенную, как у всех, мою невесту с ее родней, обстановкой. Это разоблачение продолжалось до тех пор, пока мы тут же почему-то не раздумали посылать родителям письмо о браке. После же того как я стал снова свободным, я снова взвился вверх и полетел к Недоступной. Мне была эта Недоступная для движения моего духа так же необходима, как необходима в математике условная бесконечность – ее и нет в действительности, и она в то же время больше, чем сама действительность. У меня в это время была возможность полета в бесконечность, я отошел от «брака». Но это значит только, что я не дожил еще до встречи моего ручья с берегом. Брак это… река в берегах, бесконечное в конечном.
#ДневникПришвина
24 Октября 1945.