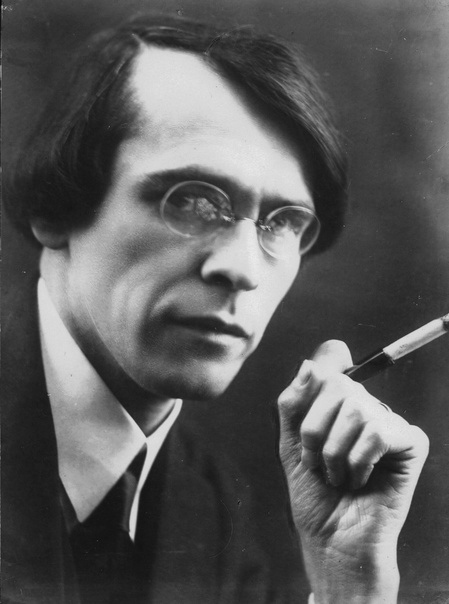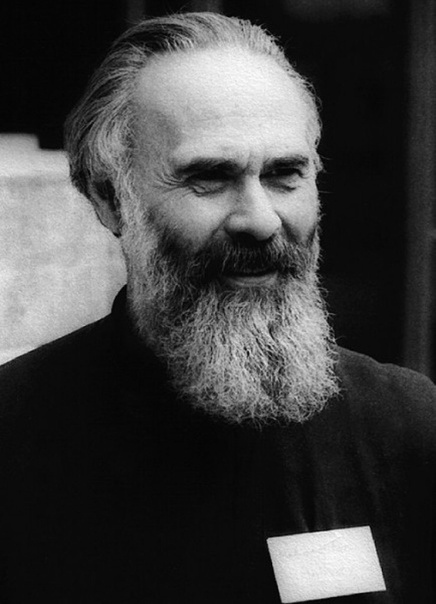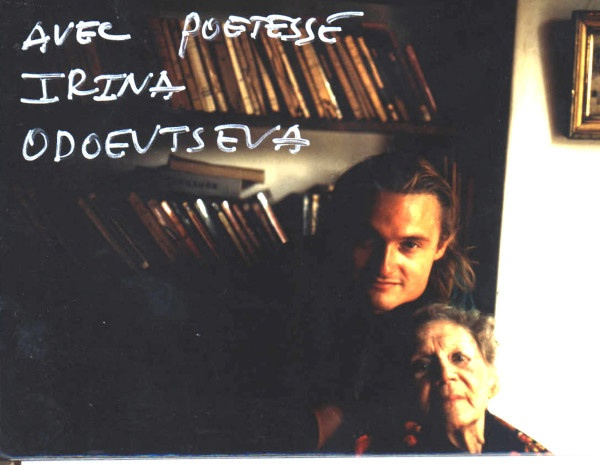Я, верно, был упрямей всех.
Не слушал клеветы
И не считал по пальцам тех,
Кто звал тебя на «ты».
Я, верно, был честней других,
Моложе, может быть,
Я не хотел грехов твоих
Прощать или судить.
Я девочкой тебя не звал,
Не рвал с тобой цветы,
В твоих глазах я не искал
Девичьей чистоты.
Я не жалел, что ты во сне
Годами не ждала,
Что ты не девочкой ко мне,
А женщиной пришла.
Я знал, честней бесстыдных снов,
Лукавых слов честней
Нас приютивший на ночь кров,
Прямой язык страстей.
И если будет суждено
Тебя мне удержать,
Не потому, что не дано
Тебе других узнать.
Не потому, что я — пока,
А лучше — не нашлось,
Не потому, что ты робка,
И так уж повелось…
Нет, если будет суждено
Тебя мне удержать,
Тебя не буду все равно
Я девочкою звать.
И встречусь я в твоих глазах
Не с голубой, пустой,
А с женской, в горе и страстях
Рожденной чистотой.
Не с чистотой закрытых глаз,
Неведеньем детей,
А с чистотою женских ласк,
Бессонницей ночей…
Будь хоть бедой в моей судьбе,
Но кто б нас ни судил,
Я сам пожизненно к тебе
Себя приговорил.
___
Константин Симонов, 1941 г.
Другие записи сообщества
Ушёл он рано вечером,
Сказал:
- Не жди. Дела...
Шёл первый снег.
И улица
Была белым-бела.
В киоске он у девушки
Спросил стакан вина.
"Дела... - твердил он мысленно, -
И не моя вина".
Но позвонил он с площади:
- Ты спишь?
- Нет, я не сплю.
- Не спишь? А что ты делаешь? -
Ответила:
- Люблю!
...Вернулся поздно утром он,
В двенадцатом часу,
И озирался в комнате,
Как будто бы в лесу.
В лесу, где ветви чёрные
И чёрные стволы,
И все портьеры чёрные,
И чёрные углы,
И кресла чёрно-бурые,
Толпясь, молчат вокруг...
Она склонила голову,
И он увидел вдруг:
Быть может, и сама ещё
Она не хочет знать,
Откуда в тёплом золоте
Взялась такая прядь!
Он тронул это милое
Теперь ему навек
И понял,
Чьим он золотом
Платил за свой ночлег.
Она спросила:
- Что это? -
Сказал он:
- Первый снег!
Леонид Мартынов
— Но одно дело со-чувствовать, со-существовать с поэтом, другое — решать крестословицы, чтобы убедиться, после трудной работы, что время и усилия потрачены даром, что короткий и бедный смысл не вознаграждает нас за ненужную возню с расшифрованием. Кому охота колоть твердые, но пустые орехи? Расколов пяток, мы с легким сердцем выбрасываем все прочие за окно. Однажды мы с Андреем Белым часа три трудились над Пастернаком. Но мы были в благодушном настроении и лишь весело смеялись, когда после многих усилий вскрывали под бесчисленными капустными одежками пастернаковых метафор и метонимий — крошечную кочерыжку смысла.
Владислав Ходасевич
«Парижский альбом. II» (1926)
Я — маленький, горло в ангине.
За окнами падает снег.
И папа поет мне: «Как ныне
Сбирается вещий Олег…»
Я слушаю песню и плачу,
Рыданье в подушке душу,
И слезы постыдные прячу,
И дальше, и дальше прошу.
Осеннею мухой квартира
Дремотно жужжит за стеной.
И плачу над бренностью мира
Я, маленький, глупый, больной.
__
Давид Самойлов
— Каюсь: прозвище «декольтированная лошадь» надолго с того вечера утвердилось за юношей... А юноша этот был Владимир Маяковский. Это было его первое появление в литературной среде или одно из первых. С тех пор лошадиной поступью прошел он по русской литературе — и ныне, сдается мне, стоит уже при конце своего пути. Пятнадцать лет — лошадиный век. <...>
Маяковский быстро сообразил, что заумная поэзия — белка в колесе. Для практического человека, каким он был, в отличие от полоумного визионера Хлебникова, тупого теоретика Кручёных и несчастного шута Бурлюка, — в «зауми» делать было нечего. И вот, не теоретизируя вслух, не высказываясь прямо, Маяковский без лишних рассуждений, на практике своих стихов подменил борьбу с содержанием (со всяким содержанием) — огрублением содержания. По отношению к руководящей идее группы это было полнейшей изменой, поворотом на сто восемьдесят градусов. <...>
«Маяковский — поэт рабочего класса». Вздор. Был и остался поэтом подонков, бездельников, босяков просто и «босяков духовных». <...> Пафос погрома и мордобоя — вот истинный пафос Маяковского.
Владислав Ходасевич
«Декольтированная лошадь» (1927)
Зима приближается. Сызнова
Какой-нибудь угол медвежий
Под слезы ребенка капризного
Исчезнет в грязи непроезжей.
Домишки в озерах очутятся.
Над ними закурятся трубы.
B холодных объятьях распутицы
Сойдутся к огню жизнелюбы.
Обители севера строгого,
Накрытые небом, как крышей!
На вас, захолустные логова,
Написано: «Сим победиши» .
Люблю вас, далекие пристани
В провинции или деревне.
Чем книга чернее и листанней,
Тем прелесть ее задушевней.
Обозы тяжелые двигая,
Раскинувши нив алфавиты,
Вы с детства любимою книгою
Как бы на середке открыты.
И вдруг она пишется заново
Ближайшею первой метелью,
Bся в росчерках полоза санного
И белая, как рукоделье.
Октябрь серебристо-ореховый.
Блеск заморозков оловянный.
Осенние сумерки Чехова,
Чайковского и Левитана.
Борис Пастернак
Октябрь 1943
Я, я, я. Что за дикое слово!
Неужели вон тот - это я?
Разве мама любила такого,
Желто-серого, полуседого
И всезнающего, как змея?
Разве мальчик, в Останкине летом
Танцевавший на дачных балах, -
Это я, тот, кто каждым ответом
Желторотым внушает поэтам
Отвращение, злобу и страх?
Разве тот, кто в полночные споры
Всю мальчишечью вкладывал прыть, -
Это я, тот же самый, который
На трагические разговоры
Научился молчать и шутить?
Впрочем - так и всегда на средине
Рокового земного пути:
От ничтожной причины - к причине,
А глядишь - заплутался в пустыне,
И своих же следов не найти.
Да, меня не пантера прыжками
На парижский чердак загнала.
И Виргилия нет за плечами -
Только есть одиночество - в раме
Говорящего правду стекла.
___
Владислав Ходасевич
18-23 июля 1924 года, Париж
Александр Васильев об Ирине Одоевцевой
Ирина Одоевцева являлась одним из последних заметных литераторов Серебряного века, которых мне удалось застать в Париже. Она жила в доме №3 на улице Касабланка в 15-м квартале Парижа, из-за нужды сдавая две комнаты из принадлежавших ей четырех. ⠀
⠀ Одоевцева обожала гостей, часто устраивала чаепития. Чай разливался в красивые чашечки, кто-то из гостей обязательно приносил с собой торт, а хозяйка, кутаясь в павлопосадскую шаль, рассказывала о Гумилеве, с которым ее связывали романтические отношения, о жизни в Париже и Риге. В Риге Одоевцева прожила довольно долго – до 1930-х годов. Ее отец владел доходным домом, находившимся в районе Маскачка. Этот дом существует и сегодня. ⠀
⠀ В молодости Ирина Владимировна очень любила наряжаться. С годами желание выглядеть привлекательно не пропало. Не имея средств на парикмахера, она приобрела себе паричок. Этот паричок выполнял двойную функцию – делал ее элегантнее и служил сейфом. Под париком Одоевцева прятала деньги, полученные у жильцов. ⠀
⠀ Однажды Ирина Владимировна решила подписать мне свою книгу. «Я напишу так! – сказала она. – Дорогому Сашеньке Васильеву на добрую память от любящей его Ирины Одоевцевой!». Но так как Одоевцева страдала артритом, то сложности возникли с написанием первой же буквы «Д». Тогда я предложил: «Давайте покороче! Дорогому Александру Васильеву от Ирины Одоевцевой!». Ирина Владимировна поддержала мою идею. Но, подумав, спросила: «Может, еще сократим?». В итоге книгу украсила надпись «Саше от Иры». ⠀
⠀ Надумав на исходе жизни вернуться в Ленинград, Одоевцева решила распродать свое имущество. Я приобрел ее печатную машинку «Ундервуд», которую передал в музей Ахматовой в Петербурге. Также ко мне перешел комод и две витрины красного дерева. В нижнем ящике комода, уже после отъезда Ирины Владимировны из Парижа, я обнаружил рукописи ее не изданных стихов. ⠀