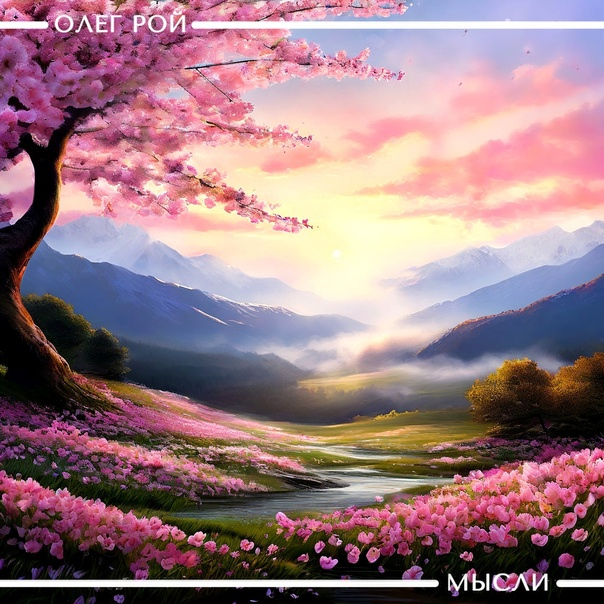Как много в нашей жизни зависит от слов…
Это только кажется, что они ничего не значат, что это пыль, мусор, “слово - серебро, а молчание - золото”. На самом деле одно сказанное слово подчас определяет человеческую жизнь.
Словом можно ранить. Больно, остро и навсегда. Так, что уже не забыть, не простить, не зашить эту рану, все равно останется грубый неровный след. И остается только развернуться и уйти, или предать всю прежнюю жизнь, или отказаться от себя, если решишь промолчать.
Словом можно исцелить. Сказанное в нужную минуту, оно иногда работает сильнее всех лекарств. Рука помощи, протянутая там и тогда, когда человеку это нужно, - часто именно слова. Одно или несколько. Но именно те.
Словом можно прояснить. Застарелый конфликт, который тянется поколениями, иногда решается легко и быстро - когда люди садятся и разговаривают. Сложнейшая проблема вдруг рассыпается прахом, а всего и надо было - произнести несколько фраз и улыбнуться. А порой оказывается, что и нет ее, проблемы–то, ты ее выдумал - и нужно было всего лишь спросить и уточнить.
Словом можно убить. Подтолкнуть к последнему краю. Хлестануть наотмашь, так, что больше не встанет человек. Отнять единственную надежду. Разрушить жизнь.
Берегите слова, друзья. И в то же время не бойтесь их. Говорите, проясняйте, уточняйте. Практически любой межличностный конфликт в XXI веке можно решить с помощью речи, а не дубины.
Всего лишь слова. Но как много они значат!
Ваш Олег Рой
Другие записи сообщества
Человек не может жить в полной изоляции и одиночестве, мы так устроены, что всегда тянемся к другим людям. Тянемся к одобрению и поддержке. Мы хотим быть важными и нужными для тех, кого ценим больше всего, мы хотим знать, что делаем чью-то жизнь радостнее и лучше.
В самый тяжёлый и неприятный день, когда всё валится из рук, важно услышать слова симпатии и любви. Важно услышать: «Я очень тебя ценю». И нередко это значит намного больше, чем молчаливый денежный перевод или сунутый в руки дорогой смартфон. Наш разум и наше сердце нуждаются в истинных чувствах и честных эмоциях. Они нужны нам так же, как воздух, вода и пища.
Не бойтесь просить любви и не бойтесь её проявлять. Ведь без душевного тепла, которое люди дарят друг другу, мир становится довольно мрачным, скучным и бесцветным местом. В то же время любовь наполняет жизнь красками и делает каждый день полнее и прекраснее.
Ваш Олег Рой (из книги "О любви и не только...")
О том, что надо делать, если тебе плохо, о способах выхода из кризиса, написано много. Советы, рецепты, рекомендации… Все они хороши, правильны и работают.
Не так часто встречается информация о том, что делать НЕ надо. А так тоже бывает. Если ты истощился и чувствуешь себя на дне, хорошие и полезные с виду идеи и советы не только не спасут, но и погубят.
Например, истории про успешных и суперуспешных людей. “Если он смог, сможешь и ты, соберись, тряпка!”. Угу, только дело в том, что собирать-то нечего. Надо сначала силы накопить, а потом уже совершать и достигать.
Сравнение себя с другими. “Вот Вася же смог выбраться из ямы!” - и рассказ о том, что помогло Васе. Но понимаете, Вася - один человек, а вы - другой. Со своим жизненным опытом, уровнем здоровья, долгами и обязательствами и прочим багажом. Может, у него было то, чего нет у вас, или наоборот. Всякая история выхода из кризиса уникальна! Одинаковых нет.
Марафоны, “волшебные пинки” и подхлестывания. На начальном этапе они не спасут, а еще сильнее загонят - потому что невозможно постоянно хлестать кнутом голодную лошадь, ее надо сначала накормить. Сократите до минимума все обязательные дела, а необязательные сбросьте, дайте себе возможность отдохнуть. Со сломанной ногой стометровку не пробежишь.
Конечно, жалость к себе и страдания о погубленной жизни - не выход, они только погубят. А вот внимание к своим потребностям и немного заботы вполне сработают. Если вам плохо и тяжко, дайте себе время. Все будет, все придет, все наладится. Просто не спешите.
Ваш Олег Рой
Счастье, когда длинный день завершается в объятиях близких людей, когда за чашкой ароматного чая видишь глаза тех, кто дорог, слышишь слова тех, кто любим, чувствуешь прикосновение родного человека и в этом маленьком уютном пространстве обретаешь ощущение дома, а вместе с ним и мира. В любви человек крепнет, обретает силу, максимально раскрывает себя.
Берегите друг друга, создавайте и читайте хорошие истории, приумножайте любовь в своей жизни, а вместе с ней - всё то лучшее, что есть в этом мире!
Ваш Олег Рой
Представьте, что у вас всё получается сразу. Первый же человек, которого вы встречаете, становится любовью всей жизни. Первая работа оказывается тем самым делом, которое приносит удовлетворение и приятную усталость в конце рабочего дня. Дети сразу идеально воспитанные, спят 10 часов ночью, а днём тихонечко чем-то занимаются где-то в квартире, не мешая никому вокруг.
На первый взгляд кажется, что именно так выглядит идеальная жизнь, дайте две! А при повторном рассмотрении понимаешь, что было бы ужасно скучно жить без малейшей интриги и зная, что все получается с первой попытки.
Поэтому пусть всё будет так, как обычно бывает всегда! Через внезапные кульбиты и неожиданные встречи, смену планов и грохочущих событий, которые переворачивают жизнь с ног на голову в момент!
Согласны?)
Ваш Олег Рой
Как приятно вернуться в любимую и уже такую весеннюю Москву и, конечно, первым делом встретиться с другом.
Мы с Сашей ST всегда собираемся посидеть час, но никогда не укладываемся, ведь новостей и тем для обсуждения у нас множество. А с последней встречи в Сириусе на Всемирном Фестивале Молодёжи было что обсудить: проекты, планы, идеи... но и, конечно же, от души посмеяться.
В очередной раз восхитился, какие удивительные, талантливые люди меня окружают и как приятно в череде рабочих встреч провести несколько часов в душевной беседе с другом.
Цените друзей, находите время на встречи, ведь это и делает нашу жизнь ярче и богаче!
Как говорит мудрый мишка Шмяк: «Дружба - и есть настоящее волшебство».
Ваш Олег Рой.
10 страхов в жизни современного мужчины по мнению Олега Роя
Что ж, друзья, о женщинах - их страхах, комплексах и желаниях мы с вами говорим довольно-таки часто, а как насчет мужчин?
Вообще-то «мужчина», пусть даже «современный мужчина» — понятие растяжимое. Мы все разные, хотя бы по возрасту. И, разумеется, в двадцать лет у мужчины совсем не такие страхи, как в семьдесят. Однако ж в возрасте, который сейчас принято называть средним, то есть где-то в районе сорока, нам всем отравляет жизнь примерно одно и то же.
1. Страх старости. С каждым днём то, что ехидно показывает зеркало, нравится всё меньше и меньше. И чаще всего нет ни здоровья, ни времени, ни силы воли, чтобы это как-то исправить. Зато у мужчины находится куча отговорок, почему он не занимается собой — и для других, и, в первую очередь, для самого себя.
2. Страх потери здоровья. Всем известно, что болеть мужчины не умеют совершенно, зато необычайно мнительны в этом отношении. А при желании можно найти у себя любые недуги, особенно, если это выгодно твоему врачу. Но, на своё счастье, мужчины боятся врачей ещё больше, чем болезней.
3. Страх импотенции. Ну, с этим всё ясно. Да как же я, альфа-самец, в постели вдруг окажусь нулём без палочки? Страшно до жути.
4. Страх потери работы, краха бизнеса, банкротства. Это ведь не просто потеря источника дохода, это потеря и статуса, и уважения к себе, и интереса женщин. Эмансипация эмансипацией, но до сих пор женщины, особенно молодые (а когда бес в ребро, то только молодые и интересны) выбирают исключительно тех мужчин, которые поведут их по жизни — в смысле, будут содержать.
5. Страх одиночества. Да-да, именно так. Мужчина может сколько угодно перепрыгивать из постели в постель и гордиться длинной своего… Я имел в виду донжуанского списка, а не того, что вы подумали. Но даже при этом он всё равно отчаянно боится остаться без той единственной при многих, которая заменит ему маму, станет верной подругой и будет рядом в старости.
6. Страх быть хуже других. Этот страх мужчина забирает с собой из детства и поносит через всю жизнь. Мужчине нужно быть лучшим во всём, неважно, чего это касается — успеха у женщин, физической формы, должности, марки автомобиля или цифры счёта в банке.
7. Страх показаться смешным. Тоже большой привет детским комплексам. И в десять лет и в сорок пять для мужчины одинаково ужасно, когда его поднимают на смех. Особенно при ней. А уж если она сама… А если ещё и в постели… Нет уж, лучше умереть.
8. Страх быть пойманным с поличным. Когда, пусть и по мелочи, нарушаешь закон, когда берёшь откат, когда привираешь в мужской компании и вдруг натыкаешься на взгляд человека, который может доказать, что ты врёшь… Но самый сильный страх такого рода — это страх быть пойманным на измене.
9. Страх лишних проблем. Как выразился Жванецкий, «наступает возраст, когда согласие пугает женщины больше, чем отказ». И тут речь не только о риске несостоятельности в постели. Любые отношения заставляют напрягаться, а напрягаться мужчины не любят. И чем дальше, тем больше не любят. Когда в ресторане юноше призывно улыбается девушка за соседним столиком, он вскоре подходит к ней. Но когда девушка улыбается мужчине за сорок, то, как бы она ни была хороша и сексуальна, мужчина тут же начинает просчитывать в уме: подарки, ухаживание, квартира для встреч, враньё жене, претензии от жены, претензии от неё… А, не дай Бог, ещё и забеременеет… И в результате просто отворачивается, сделав вид, что не заметил призывной улыбки.
10. Но самый большой страх — это страх показать, что ты чего-то боишься. И поэтому большинство мужчин, прочитав этот пост, презрительно скажут «Фигня!» и промотают ленту новостей дальше. Нужна недюжинная смелость, чтобы признаться в собственных страхах… даже самому себе.?
Ваш Олег Рой
Олег Рой. ? Прости
(отрывок из романа)
... — Айрис Келли, девятнадцатилетняя ирландская скрипачка, покорила аудиторию своей трактовкой знаменитой вариации Генриха Эрнста…
— Выключи… — прошептала Олеся.
Зачем ей знать, кто победил на конкурсе имени Яна Кубелика? Зачем ей теперь вообще музыкальные новости? Она вцепилась зубами в правое запястье, словно хотела отгрызть проклятую руку! Как угодивший в капкан зверь отгрызает лапу — и убегает! Хромой, но свободный. Хороша свобода на трех лапах…
Должно быть, она застонала вслух. Бабушка тут же подскочила, захлопотала, заохала:
— Лесенька, ну что ты! Все еще наладится. И Алексей Давыдович говорит, что надо упражнения делать, разрабатывать… И рука правая все-таки, не левая. И запястье уцелело...
— Больно… — стоило лишь подумать о том, как рука ложится на смычок — и запястье (уцелело оно, ага!) простреливало болью, а пальцы скрючивались, как у дохлой курицы.
— Лесенька, ну а как спортсмены после травм восстанавливаются? Конечно, больно, но ведь…
Она отвернулась к стенке. Спортсмены!
Бабушка за спиной продолжала что-то бормотать. С кем она? Карина, что ли, явилась?
— Хоть ты бы на нее повлияла, со следователем так ведь и отказывается разговаривать.
— Следователем? — Каринин голос звучал нехорошо, саркастически как будто. Впрочем, подруга права — что тут следователь сделает? Руку новую ей отрастит?
— Ну с дознавателем, но это ж все равно, — приговаривала бабушка. — Пусть его посадят.
— Таисия Николаевна, никто его не посадит. Хоть десять следователей притащите. Да и дела-то нет никакого. Несчастный случай, и все.
— Да как же…
— Сто раз уже обсуждали. Герман, по его словам, обнаружил ее на полу, без сознания, сам привез в больницу. Вот и решили: закружилась голова, падая, уцепилась за косяк, а дверь захлопнулась. Ну какое тут «посадят»?
— Но нельзя же…
Ах да, в больницу. Там было холодно и больно. Здесь тоже холодно и больно. Хоть и говорят, что дома и стены помогают. Как же, помогают они!
Утыкаясь носом в спинку дивана, она каждый раз надеялась, что все исчезнет. Весь этот ужас окажется страшным сном. Переволновалась, когда Римма Федоровна сказала про Братовник, вот и привиделся кошмар.
Но, закрывая глаза, она лишь раз за разом видела одно и то же: белый потолок с монотонно жужжащей трубкой дневного света и ниже — гигантский ворох белых лилий. Полураспустившихся, так что зеленого было больше, чем белого, и от этого букет казался неживым. Похоронным.
Ее, Олесю, хоронят. И потому заваливают цветами.
И Герман стоит на коленях возле ее гроба:
— Прости! Прости, Лесенька! Прости, родная!
В гробу было бы лучше. Спокойнее.
Она вздрогнула. Прокручивая раз за разом ту сцену в больничной палате, она не замечала главного.
Прости! Даже падая перед ней на колени после своих «взрывов», он повторял «извини». А тут — прости.
Вроде и невелика разница, ан нет. Пропасть. Бездна. И что с этой пропастью делать? Ведь если он просит прощения, значит, ей нужно как-то… отреагировать? Как-то… простить?
Ведь он… понял? Хочет начать все сначала?
Ледяная игла, застрявшая, казалось, в правом запястье, вытянулась, выросла, кольнула в самое сердце.
Сначала?
Здесь он никак не мог бы появиться. Даже бабушка его не впустила бы. Про Карину и говорить нечего. А она, Олеся… ждала? Чтобы ворвался в облезлую ее комнату, упал на колени — как тогда, в больнице — покрыл поцелуями несчастную правую руку…
Почему он принес в больницу лилии? Белые, кладбищенские.
Почему сказал «прости»? Неужели все еще возможно? Нужно лишь сделать над собой усилие, улыбнуться, открыть глаза, погладить его по склоненной голове…
Но почему?!
Почему это она должна что-то делать? Почему усилия над собой предписываются ей? Потому что повинную голову меч не сечет? Я же попросил прощения! Как индульгенцию купил. Я же встал на колени, попросил прощения, и теперь ты обязана проявить милосердие. Так?
Милосердие?
Разве это чертово «прости» накладывает какие-то обязательства? Получается, что так. Но вот вопрос — на кого? Не на того, кто просит прощения — он ведь уже склонился, выразил сожаления, чего вы от него еще хотите? Нет. Тот, кому сказали «прости», теперь, выходит, обязан? Обязан проявить милосердие?
Почему милосердие, если тот, кто просит прощения, искренен? Если он действительно жалеет, ну или раскаивается, ну или как это еще назвать? Если «прости» идет из сердца, оно не для того, перед кем ты на коленях стоишь, оно для тебя самого, разве нет? Тебе стыдно — за себя, за свои слова и действия! — и кричишь! Небесам, мирозданию — неважно, слышат ли тебя. Ты просто не можешь этот крик внутри удержать, тебе необходимо его выплеснуть. Очиститься.
И при чем тут милосердие? Как будто «прости» требует от «раскаявшегося» неведомо каких усилий. Которые как бы сами по себе уже наказание. Ну да. Он ведь снимает камень со своей души? Ага, точно. И вручает его тому, кого обидел: на, держи, сделай с этим что-нибудь.
Теперь это твоя забота.
А ведь так и есть.
По крайней мере у нее с Германом так оно и было. Правда, он говорил «извини». Извини. Сними с меня вину, возьми ее себе. Хотя на коленях стоял — вроде как раскаивался? Взрывной характер, что тут поделаешь? Разве можно не простить? Чтобы, получив свою индульгенцию, зверь опять бросился? Ну да. Индульгенция — разрешение. Взрывной характер, внутри как будто зверь просыпается, что я могу поделать! Прости! Я же люблю тебя!
Я не удержался, и теперь у меня на сердце камень? Да есть ли у тебя оно, сердце-то? Ай, неважно. Важно — передать камень обиженному, пусть теперь это его проблема будет.
Зверь, наверное, тоже любит своих жертв. Как иначе, на кого он бросаться-то станет?
Нет. Нет, Герман, не приходи. Пожалуйста. Я… не могу. Мне нечем защититься от твоего зверя. Лилии — да, лилии — это правильно. Я умерла, ты принес цветы. И все. Потому что если я еще раз окажусь рядом с тобой — сердце зайдется загнанным зайчонком. Зайдется, завизжит пронзительно и безумно — и остановится.
Не приходи. Пожалуйста...