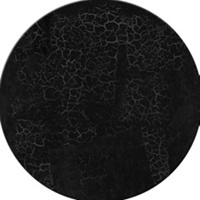Документальный фильм Ники Стрижак «Эрмитаж. Сокровища нации» (2014)
Для съемок документального фильма перекрывались залы Эрмитажа. Это первый раз в жизни музея, когда для съемочной группы телеканала «Россия» сделали такое исключение. Поэтому в фильме — эксклюзивные кадры, истории, тайны и музейные страсти. Государственному Эрмитажу 250 лет. Сегодня в Эрмитаже — одно из лучших собраний мирового искусства. Это поистине великий музей, который бережет сокровища нации.
Но Эрмитаж велик не только своей уникальной коллекцией в миллионы единиц хранения. Его сердце — Зимний дворец — было главной резиденцией русских монархов. Именно здесь вершилась история. И потому жизнь коллекции тесно сплетена со многими событиями, происходившими во дворце. Тайны и заговоры, убийства и революции — все главные потрясения двух с половиной столетий прошли перед полотнами великих мастеров. Нередко и они становились заложниками изломов истории: их спасали от пожаров и войн, пытались продать и разделить, ссылали и грабили, защищали и гордились ими. Что они могут рассказать? Чему они были главными, пусть и молчаливыми свидетелями?
Этот фильм — увлекательный рассказ об уникальном духе эрмитажного собрания через важные события, происшедшие в России. Это возможность для широкого зрителя узнать подробности нашей истории, почувствовать энергетику такого особенного места, пережить эмоции тех, кто когда-то здесь жил, служил и пополнял коллекцию. А главное — это часовое путешествие через века, для которого не надо покидать стен знаменитого дворца.
Другие записи сообщества
Исторический архитектурный фильм «Версаль: испытания Короля-солнца» (2019)
Версаль, катализатор научных исследований во Франции 17 века, был крупнейшим сооружением в Европе. Мы погружаемся в историю и исследуем грандиозную задачу строительства королевского дворца.
Страна: Франция
Режиссер: Philippe Tourancheau / Филипп Тураншо
2 серии
Питер Брейгель Старший «Триумф Смерти», 1562
Триумф смерти — один из сюжетов изобразительных искусств и словесности Средневековья, которые воплощают иконографию смерти.
Самая мрачная и знаменитая из брейгелевских работ. Скелеты правят бал. Как будто прервались какие-то законы, прорвалась некая ненадежная граница, отделяющая царство смерти от царства живых. Поднимается крышка огромного гроба, который сам по себе как бы является входом в потустороннее царство, и оттуда двигаются нескончаемые миллионы скелетов, с которыми пытаются вступить в сражение лишь отдельные люди, но исход уже предрешен заранее.
Брейгель не придумал этот сюжет. Еще готическое Средневековье разработало довольно тщательно дифференцированную иконографию плясок смерти, триумфов смерти, искусства умирать. Это разные иконографические мотивы. «Пляски смерти» представляли собой обычно серии сюжетов, изображающих хоровод, где скелеты, судорожно подпрыгивая, увлекают в танце людей из самых разных слоев общества: императоров, кардиналов, купцов. «Триумфы смерти» – это именно картины, в которых чаще всего скелеты или смерть с косой в виде истлевшего трупа завладевает миром.
Брейгель, используя многие иконографические мотивы, существовавшие в разрозненном виде, объединяет их в некое новое, чисто брейгелевское по пониманию сюжета, единство. У него смерть косит всех без разбора. Пожалуй, Брейгель первым внес в эти мотивы новый эмоциональный оттенок: смерть не только косит людей, но и издевается над ними – издевается своей внешней, кажущейся милосердностью. Человек убит или смертельно ранен, а она помогает ему поудобней умереть, улечься на землю. Вот король в короне, в алой мантии на горностаевом меху, в латах, которого смерть-скелет как-то бережно опускает на землю. Вот кардинал в широкополой шляпе, изображенный со спины. А рядом — простая горожанка, упавшая ниц; рядом с ней грудной ребенок, которого нюхает пес-скелет. Орудиями смерти являются не только скелеты людей, но и животных – скелет лошади, кое-где обтянутый кожей, везет черепа, а человеческий скелет выступает за возницу.
Когда рассматриваешь детали, то поражаешься одному обстоятельству: здесь сотни скелетов, сотни черепов. Ну что можно «выжать», так сказать, в художественном, образном отношении из черепа? Ведь все абсолютно однообразны. Но Брейгель изображает их в таких разворотах, в таких положениях, что эти черепа как бы приобретают мимику. Они кажутся то подмигивающими, то скалящимися, то улыбающимися какой-то дьявольской ухмылкой, то, наоборот, угрожающе смотрящими провалами своих глаз. Эти детали замечательно выполнены художником и свидетельствуют о его высочайшем мастерстве.
Земля бесплодна и пуста. Вернее, здесь есть своего рода растительность, — земля «прорастает» висилицами, шестами с колесами наверху для колесования. Существовали разные формы колесования. Святую Екатерину Александрийскую, например, палачи распяли на двух зубчатых колесах, а потом начали их вращать. При такого рода колесовании зубцы впивались в человеческое тело, а вращение двух колес раздирало человека, кости ломались, суставы выходили из суставов. Другой тип колесования представляли своеобразные шесты с тележными колесами наверху, которые и изображает Брейгель. Приговоренных к казни распинали на этих больших колесах и, перебивая ему суставы, оставляли умирать. Подобная смерть растягивалась надолго и человеческие останки потом месяцами гнили на этих колесах.
В «Триумфе Смерти» не может не привлечь внимания еще один момент: мертвецы собрали свое судилище, свой ареопаг. На высоком парапете, рядом с круглым зданием классической архитектуры, скелеты, облаченные в некое подобие белых тог, сгруппировавшись вокруг креста, предстают неким трибуналом. Для современного зрителя это просто еще один жутковатый момент. Но современники Брейгеля, тем более во Фландрии, которая была накануне религиозного взрыва, прекрасно узнавали в этой сцене намек на трибунал Святейшей инквизиции. Здесь нет черных ряс, здесь заседают мертвецы, но эта метафора более чем прозрачна. Но испанским религиозным цензорам было не к чему придраться: мотив, дозволенный в христианском мире, и, к тому же, довольно распространенный. Брейгель иногда умел создавать очень откровенные произведения с очень актуальным смыслом, скрытым под традиционными сюжетными мотивами.
В. Клеваев «Лекции по истории искусства. Северное Возрождение. Питер Брейгель Старший»
Поль Клодель «Глаз слушает»: Введение в голландскую живопись
Когда я пытаюсь определить, закрепить на бумаге впечатление, оставшееся у меня от этой страны после слишком коротких встреч с ней, не сразу возникает потребность обратиться к зрительной памяти. В Голландии взгляд путешественника не находит для себя естественных рамок, внутри которых каждый размещает свои воспоминания и размышления. Природа не наделила ее четкой линией горизонта, а лишь размытой границей между вечно изменчивым небом и землей, которая через бесконечную череду оттенков приближается к пустоте. Здесь наша мать-Природа не пожелала торжественно и высокопарно заявить о себе такими грандиозными сооружениями, как горы, внести драматизм с помощью водопадов, самовыразиться в рутых скалах и отлогих склонах, длинных вереницах холмов, то прерываемых, то возобновляемых, которые развивают и исчерпывают мелодию пейзажа. Ни пауз, ни неожиданностей, никакого внезапного потрясения или хотя бы неотразимого соблазна, как в долинах Луары или Сены, ни одного из тех препятствий, тех вздыбливаний, которыми движение земли противится движению вод и сдерживает его. Здесь человек становится обитателем или гостем растительно- водного покрова, обширной поверхности, по которой глаз перемещается так свободно, что не сообщает ногам ни малейшего импульса к движению. Все здесь было выровнено, вся эта протяженность податливой земли, готовой превратиться в яркий цветочный ковер и в молочные фермы, была отдана человеку, чтобы он сделал себе из нее пастбище и сад. И человек сам взялся обозначить горизонт — своими деревнями и колокольнями, разбросанными здесь и там купами деревьев. Мы определяем расстояние по прямым линиям каналов, чьи берега сходятся вдали под острым углом, а ориентирами нам служат животные на безбрежной зеленой равнине — вначале ясно различимые стада, затем разбросанные до бесконечной дали светлые точки; залитое солнцем озеро рапса; многоцветная палитра гиацинтовых и тюльпановых полей. И все же, когда находишься в центре этого зеленого эмалевого циферблата, ни на минуту не возникает ощущения неподвижности. И дело не только в бесконечной игре света и тени по мере того, как день разгорается, а затем угасает среди необъятных небес, где все время что-то свершается или что- то готовится. И не только в этом непрестанном дуновении, мощном, словно буря, влажном и мягком, как дыхание человека, как тепло, которое мы чувствуем щекой, когда рядом кто-то разговаривает, — это дуновение повсюду, сколько хватает глаз, весело подхватывают ветряные мельницы; они надаивают воду и наматывают на себя туман, — не только это дуновение, порой слабея, порождает в нас ощущение текущего времени, осознание метафизической сути, всеобщей взаимосвязи, бесконечно сложного и разнообразного бытия вещей, живущих вокруг. Мы начинаем понимать, что вокруг нас тихо и единодушно свершается некий общий труд, который можно уподобить взвешиванию и медлительному отсчету времени, и вскоре нам уже не чуждо довольство умиротворенной, просветленной, радостной души. В отсутствие предмета, назойливо притягивающего взгляд, мысль естественным образом растворяется в созерцании. Не кажется удивительным, что именно в этой стране Спиноза создал свою геометрическую поэму. Возникает нечто, похожее на состояние души у моряков: ослабление интереса к житейским обстоятельствам и возросшее желание быть в ладу со стихиями, глаз, привыкший глядеть вдаль, становится верным и острым, стремишься не подготавливать событие, а использовать явление природы. Разве можно поверить, что в этом краю, пропитанном морем, где даже трава и листья живут таинственными морскими соками, человеческая душа осталась в стороне от этой глубинной связи, если именно от нее зажегся на щеках здешних девушек яркий, как тюльпан, румянец?
Чтобы вы меня лучше поняли, прибегну к сравнению из жизни человеческого духа. Когда внутри нас подготавливаются или завершаются большие события, когда круто изменяются наш образ мысли, жизнь чувств или склад характера, когда за мелкими повседневными происшествиями мы ощущаем приближение одного из тех мощных, неудержимых приливов, что зовутся большой любовью, большим горем или обращением к Богу, когда мы замечаем, что первые преграды уже размыты, что уровень нашего горизонта поднялся, что все выходы нашей душе перекрыты, когда, покидая еще вчера нетронутое, а сегодня затопленное поле, мы видим, что в самых потаенных и загадочных глубинах нашего «я» неотступно поднимается вода, и вторжение чужеродной силы угрожает сломить нашу последнюю защиту, — как тут не вспомнить Голландию в полдень, когда, плывущий в триумфе на тысячах судов, под хлопанье своего трехцветного флага, бог морских зыбей, вступая во владение всей этой сетью кровеносных сосудов, очередной раз является с визитом в подвластную ему страну? Уступая этому могучему напору, наполняются шлюзы, один за другим разводятся мосты, выполняя роль весов, старые лодки, севшие на мель, высвобождаются из своей илистой темницы, из отверстых плотин вырываются бурливые потоки, и Семь Соединенных Провинций всей своей плотью очередной раз ощущают то ни с чем не сравнимое сотрясение, которому в эпитафии великому адмиралу Рейтеру дано такое великолепное название: Immensi tremor Ocean?
Но наступает и другой час, когда душа, чье горло словно бы перехвачено этим недругом, чувствует, как его хватка понемногу ослабевает, а вода, грозившая вас поглотить, убывает, спадает, неудержимо утекает через все выходы, унося с собой частицу нас самих. Одна за другой открываются земли, которые казались утраченными безвозвратно, и глаз, опережая руку, снова возвращает себе окружающие пространства, обновленные и оплодотворенные.
Не пытайтесь понять Нидерланды, если, оказавшись там надолго и всерьез, вы не чувствуете под ногами скрытую упругость почвы, если не ощущаете собственного участия в этом космическом ритме, словно грудь, которая то вздымается, то опадает.
Голландия — это громадное дышащее тело, и что есть обширный выем Зюйдер-Зее посреди нее, как не своего рода легкое? Два раза в день она полной грудью, всем нутром вбирает в себя море, словно струю соленого молока, и два раза в день на этих на миг упокоившихся водах происходит обмен того, что прибыло, на то, что приготовлено к отправке. Будто прозвонил некий колокол, и открылась Биржа, — я говорю «биржа» в обоих смыслах этого слова — в смысле вместилища ценностей, ибо что может быть богаче этой лавки, где в обмен на все сокровища Индии, на все товары, перечисленные в «Апокалипсисе»,— и шелка, и багряницы, и всякого благовонного дерева, и всяких изделий из слоновой кости, из меди, железа и мрамора, корицы и фимиама, и мира и ладана, и вина и елея, и муки и пшеницы, и скота и овец, и тел и душ человеческих, — Рейн и Маас отдают свое золото?...
... В самом деле, я думаю, что мы научились бы лучше понимать голландские пейзажи, эти поэмы созерцания, эти кладези молчания, порожденные скорее внутренней сосредоточенностью, нежели любопытством, если бы сумели вслушаться в них, пока они обогащают наш разум через зрение. Первое, что поражает в них, по сравнению с тесными, нагруженными до отказа английскими и французскими картинами, — это огромная важность пустого пространства по отношению к заполненному. Поражает неторопливость, с которой тон, проходя через бесконечную череду нюансов, закрепляется в линии и форме. Пространство вступает в союз с пустотой, вода на бескрайней равнине приманивает к себе облака. И постепенно начинаешь видеть — я чуть не сказал «слышать», как из этого заговора стихий рождается некая горизонтальная мелодия, подобная флейте виртуоза, подобная долгой скрипичной ноте. Это молчаливая линия, которая вычерчивается параллельно другой линии, это зрелище, которое после задумчивой паузы снова оживает в мечте, одухотворяясь вследствие своей удаленности от первоисточника. Как в шедеврах японского искусства, основным элементом композиции здесь всегда служит треугольник, будь то вытянутый вверх треугольник, равнобедренный, превращающийся в парус и колокольню, или же обращенный вниз разносторонний треугольник, начинающийся у рамы и завершающийся узким острием. Словно гамма, которую мы можем пропеть как нам угодно — хоть снизу вверх, хоть сверху вниз. Он присутствует всегда — это он крепнет и расширяется в крещендо, когда мы движемся по нему вверх, до самых крыльев ветряной мельницы, или же, как у Рейсдаля, внезапно обрывается, оборачиваясь нагромождением округлых скал и завитками листвы; это он вытягивается в длинный плот с колокольнями вместо мачт на полотнах Яна ван Гойена; это он по прихоти нашего воображения наделяет движением и тайной жизнью все это текучее и в то же время застывшее целое, в котором для нас длительность, оцепенев, замерла в экстазе...
До сих пор я говорил о пейзажах, представляющихся нам, так сказать, со среза, в профиль. Но есть и совершенно другая их разновидность, как, например, «Аллея в Мидделхарнисе» Хоббемы или картины ван дер Неера, которые обращены к нам лицом. В самой середине этих картин дорога, канал или более или менее извилистый ручей распахивают на самой середине воображаемое пространство, приглашая нас исследовать его. Или же, затемненный, подробно выписанный передний план выделяется на фоне сияющей водной глади, которая отделяет реальность от мечты и за которой виднеется далекий город. Нас впустили — я чуть не сказал: втащили — внутрь композиции, и созерцание превращается для нас в приманку. Где мы? Еще секунда — и захочется покрепче затянуть на собственных ногах ремень волшебной обуви, вроде крылатых сандалий, покорных проводнику душ Гермесу, тем самым движением, которое голландские мастера так часто подмечали у конькобежцев.
Идем дальше! И поскольку нас пригласили сюда столь любезно, будем послушны этой руке, проскользнувшей в нашу руку и влекущей нас за собой куда-то дальше, зовущей нас войти внутрь. Ван дер Неер и Хоббема показали нам природу изнутри, другие поведут нас внутрь человеческого жилья, а еще один, величайший из всех, поведет внутрь самой души человеческой, где светит «Свет истинный. Который просвещает всякого человека, приходящего в мир», вопрошая тьму, которая не решается принять его. Я знаю, что, приписывая голландской живописи некую особую миссию, некую скрытую направленность, я вступаю в противоречие с большинством знатоков и в особенности — с самым значительным из них: я имею в виду проницательного и сведущего критика, замечательного писателя, каковым является Эжен Фромантен. Вспоминается чудесная страница из «Старых мастеров», и я не могу отказать себе в удовольствии привести ее здесь.
«Пришло время размышлять поменьше, метить пониже, пристальнее наблюдать и писать не хуже, нем раньше, — но по-другому. Это живопись толпы, обывателя, человека труда, выскочки и первого встречного, созданная только для него, созданная им самим. Нужно сделаться смиренным для вещей смиренных, маленьким для вещей маленьких, хитрым для вещей хитрых, принять все, ничего не отбирая и ничем не пренебрегая, по-дружески заглянуть в их частную жизнь, любовно вникнуть в привычки: тут все дело в симпатии, прилежном любопытстве, в терпении. Отныне гений будет состоять в том, чтобы ничего не отвергать, забыть, что знал, дать модели застать себя врасплох, спрашивать лишь у нее самой, как она желает, чтобы ее изобразили».
И к этому Фромантен добавляет, словно не замечая разрыва или противоречия между следующей фразой и предыдущей:
«Если оставить в стороне Рембрандта, который был исключением как у себя в стране, так и в других странах, как в его время, так и во все времена », — здесь я поставлю вопросительный знак, — «то во всех мастерских Голландии вы увидите лишь один стиль, лишь один метод. Цель художника — воспроизвести то, что есть, полюбить то, что он воспроизводит, четко выразить простые, сильные и верные ощущения. Поэтому стиль отныне приобретает простоту и ясность принципа. Искренность становится для него законом. Его главное правило — быть дружелюбным, естественным и хорошим физиономистом: для этого требуются определенные нравственные достоинства, простодушие, терпеливая настойчивость, прямота. В общем, домашние добродетели переносятся в сферу искусства, они одинаково полезны и желающему хорошо себя вести, и желающему стать хорошим художником. Если вы отнимете у голландского искусства его честность, то его жизнетворный принцип навсегда останется для вас загадкой, и вы уже не сможете дать определение ни его нравственному содержанию, ни его стилю. Но как в самой обыденной жизни есть средства, способные возвысить и облагородить самый образ действий, этих художников, по большей части слывущих близорукими копиистами, вы находите душевное величие и доброту, любовь к истинному, привязанность к настоящему, которые наделяют их произведения ценностью, казалось бы, не свойственной материальным предметам. Так и рождается их идеал, идеал мало кем признанный, зачастую презираемый, но несомненный для того, кто хочет в него вникнуть, и очень привлекательный для того, кто сумеет его оценить. Порою малая толика обостренной чувствительности превращает их в мыслителей, даже в поэтов».
Последняя фраза доставляет удовольствие и исправляет оценку, которую, хоть она и соседствует со многими точными и тонкими замечаниями, я все же нахожу ошибочной. Малая толика — это много, как я только что говорил по поводу синей крупинки соли и красного зернышка перца, и я утверждаю, что эта скрытая острота присутствует в каждой композиции старых голландских мастеров. Нет среди них ни одной, которая помимо того, что говорит в полный голос, не хотела бы сказать чуть слышно что-то еще. Нам же нужно внимательно слушать, вникать в невысказанное. Фромантена, а вместе с ним и большинство знатоков голландской живописи ввело в заблуждение разительное несоответствие атмосферы, точки зрения, отправной точки у голландцев — и поэтики (чуть не сказал: риторики) классицизма и барокко, искусства, которое в их эпоху достигло наивысшего расцвета в Италии и во Фландрии, искусства полнозвучного, щедрого, блестящего, красноречивого, велеречивого и полного условностей. Чтобы охарактеризовать его, лучше всего привести еще одну страницу из «Старых мастеров»:
«Тогда было в обычае мыслить смело, возвышенно, широко, искусство отбирало натуру, приукрашивало, подправляло, жило скорее в абсолютном, чем в относительном; оно видело действительность такой, как она есть, но предпочитало показывать ее такой, какою она не бывает. Все было в большей или меньшей степени привязано к человеческой личности, зависело от нее, подчинялось ей и выравнивалось по ней, постольку поскольку некоторые законы, пропорции и некоторые категории, такие, как изящество, сила, благородство, красота, тщательно изученные в человеке, возводились затем в теоретические принципы и применялись также и к тому, что не было человеком. Получалась некая всеобщая очеловеченность или очеловеченная всеобщность, прототипом которой являлось человеческое тело в его идеальных пропорциях. Будь то история, видения, верования, догматы, мифы, символы, эмблемы, — человеческий образ почти исключительно выражал все, что может быть им выражено. Где-то там, вокруг этой всеобъемлющей фигуры, смутно виднелась природа. Ей отводили роль разве что рамы, которая должна была сузиться или исчезнуть сама собой, как только в ней занимал место человек. Все подвергалось исключению либо синтезу. Поскольку требовалось, чтобы каждый предмет заимствовал свою зримую форму у одного и того же образца, ничто не могло преступить закон. Согласно этим законам исторического стиля пространство сжимается, горизонты сужаются, от деревьев остается совсем немного, небо становится менее изменчивым, воздух более прозрачным и ровным, а человек в большей степени подобен самому себе, чаще обнажен, чем одет, как правило, статен телом, прекрасен лицом, чтобы он мог лучше справиться с ролью, которую его заставляют играть»...
Фрагмент книги Поля Клоделя «Глаз слушает»
Альбомы
Голландские пейзажи
Брейгели
Фламандская живопись
Диптих Герарда Давида «Суд Камбиса» или «Сдирание кожи с продажного судьи», 1498
Картина-диптих нидерландского художника Герарда Давида, написанная для зала судебных заседаний в ратуше Брюгге, была призвана напоминать о необходимости судить справедливо. В настоящее время выставлена в Муниципальной художественной галерее в Брюгге (Музей Грунинге). Относится к жанру назидательных изображений, весьма популярных в нидерландском искусстве того времени. Ее сюжет основан на истории, описанной в «Истории» Геродота:
«Так сказал Дарий. Затем царь поставил сатрапом Сард своего сводного брата Артаферна и вместе с Гистиеем отбыл в Сусы. Отана же он назначил начальником войска в Приморской области. Отец этого Отана — Сисамн был одним из царских судей. За то, что этот Сисамн, подкупленный деньгами, вынес несправедливый приговор, царь Камбис велел его казнить и содрать кожу. Кожу эту царь приказал выдубить, нарезать из нее ремней и затем обтянуть ими судейское кресло, на котором тот восседал в суде. Обтянув кресло, Камбис назначил судьей вместо Сисамна, которого казнил и велел затем содрать кожу, его сына, повелев ему помнить, на каком кресле восседая, он судит».
Левая часть
На левой части диптиха изображен арест неправедного судьи Сисамна, который был уличен во мздоимстве. Царь Камбис перечисляет судье, отсчитывая по пальцам, эти случаи. Один из солдат удерживает Сисамна за руку. За креслом судьи стоит его сын — юноша Отан, будущий преемник.
Хотя описываются античные события, персонажи одеты в соответствии с современной художнику модой, над креслом видна дата «1498», а действие происходит под гербами Филиппа Габсбурга и его супруги Хуаны Арагонской. Портрет герцога был добавлен к изображению первой части в 1494 году, когда он начал править. Остальные действующие лица тоже являются портретами современников художника. На дальнем плане в проеме видны торговые ряды Брюгге, которые сохранились до сих пор. На заднем плане также изображено крыльцо, на котором виден человек, протягивающий судье кошель с деньгами. Над креслом судьи путти поддерживают гирлянды.
Правая часть
На правой части диптиха изображено, как палач сдирает с живого судьи кожу. На заднем плане, в галерее на судейском кресле, покрытом кожей, снятой с казненного, сидит Отан, сын Сисамна. Слева от кресла нового судьи, над дверью висят гербы Фландрии и Брюгге.
* Картина была показана в фильме Мартина Макдонаха «Залечь на дно в Брюгге».
Эпическая метафорическая антиутопия Фрица Ланга «Метрополис» (1927)
«Посредником между головой и руками должно быть сердце»
Культовый научно-фантастический фильм по роману Теи фон Харбоу, одно из величайших кинопроизведений в истории. Масштабная метафорическая антиутопия, ставшая высшей точкой и завершением развития немецкого киноэкспрессионизма. Действие разворачивается в Будущем. Огромный футуристический город разделен на две части — верхний Рай, где обитают «хозяева жизни», и подземный промышленный Ад, жилище рабочих, низведенных до положения придатков гигантских машин. Сын единовластного правителя Метрополиса ведет беззаботную и праздную жизнь и развлекается в Вечных Садах. Однажды он случайно встречает девушку с нижних уровней и влюбляется в нее, после чего отправляется на «дно». Подземная часть Метрополиса представляется ему Молохом, постоянно требующим все новых человеческих жертв...
Фильм действительно культовый и, в отличие от многих картин той эпохи, значимых скорее для истории и эволюции кино, «Метрополис» и сегодня активно цитируется, реинтерпретируется, а многие запущенные им в кино тропы воспроизводятся в блокбастерах наших дней. Декорации, воплотившие утопический мир будущего не просто удивляют, а поражают даже избалованного зрителя. Будучи мастером немецкого киноэкспрессионизма Фриц Ланг успешно справился с, казалось бы, непосильной задачей. В 1927 году германский режиссер создал картинку достойную кинотеатров и XXI века.
Создание «Метрополиса»
Для создания на экране своего супер Нью-Йорка, режиссер использовал так называемый «прием Шюфтана», остроумно придуманное зеркальное устройство, превращающее мелкие предметы в циклопические» (З. Кракауэр «Психологическая история немецкого кино»). Верхний город ошеломляет своими высокими зданиями, висящими в воздухе монорельсовыми путями и курсирующими между всем этим вертолетами. Для того времени это было чудо, нечто доселе неведомое. Для сегодняшнего дня этот образ представляется странно знакомым. А все потому, что он уже многократно растиражирован во всевозможных картинах жанра кинофантастики.
Для фильма было построено грандиозное количество миниатюрных моделей, изображавших как исполинские здания и машины будущего, так и отдельные автомобили. Спецэффекты фильма выполнены в большой степени с помощью покадровой анимации. В частности, так снимали движение машин по подвесным магистралям (ассистенты двигали каждую миниатюрную модель). Для изображения лучей света, ползающих по стенам Новой Вавилонской Башни, художник Эрих Кеттельхут нарисовал около тысячи картин размером 40х60 см — по отдельному изображению для каждого кадра.
Костюм робота (лже-Марии) был изготовлен архитектором Вальтером Шульце-Миттендорфом из специального пластика, который быстро затвердевал на воздухе; до застывания из него можно было лепить все, что хочется, спаивать, сгибать и распрямлять. Актрисе Бригитте Хельм пришлось пролежать некоторое время в гипсовой форме, чтобы костюм «механического человека» в точности повторял очертания ее тела. Костюм был разборным, примерно как рыцарские доспехи.
Считается, что в массовых сценах были заняты около 30 тысяч человек, из них 750 детей; 1100 человек для участия в массовке эпизода с Вавилонской Башней согласились побрить головы. При том, что сам эпизод с Башней длится от силы минуты три, а появление многочисленных строителей — меньше минуты.
Фильм стал самым дорогим проектом за всю историю немецкого немого кино.
Сергей Курёхин - Опера богатых (1992)
Данная пластинка – попытка построить минимализм на новой основе. Целью автора являлось создание сети подвижных мотивов, упрощенных до максимума (так называемый максимальный минимализм). В идеале таким мотивом должна быть одна нота при переменной гармонической функции. Но автор еще не дошел до такого совершенства, когда все творчество можно строить на одной ноте. Тем не менее предельное упрощение мелодической линии, а также гармонической основы позволяет создателю добиваться развития путем изменения тембральной стороны, а также нелепой фразировкой солирующих инструментов. Воздействие на слушателя достигается путем вдалбливания одного или двух примитивных мотивов, несущих в себе мотивную функцию всей музыкальной культуры человечества во всей ее духовной глубине и цельности. Ритм также должен быть упрощен до минимальной составляющей. Все это позволяет построить минимализм не на его традиционной медитативной основе и ее вариациях, а опираться на европейскую традицию, в частности, на григорианские песнопения, также довольно тупо использующие это самое, о чем я уже говорил. Лучше всего эту музыку слушать во время рыбной ловли, так как колебания мелодии и гармоническая основа заставляют рыбу стервенеть и бросаться на все первое попавшееся (так называемый «эффект вытеснения»). Также рекомендуется слушать предельно громко и в состоянии максимального эротического возбуждения, чтобы эффект вытеснения воздействовал с небывалом эффектом. На этом я предлагаю закончить словоизлияния и перейти к музыкальной ванне. Всего доброго. Целую. Сергей Курехин.
Опера для богатых нервами
Парадокс Курехина хорошо описывали в воспоминаниях о нем: рокеры гнали его к джазменам, джазмены – к рокерам. Если о нем вообще пишут, то, обычно, теряются даже в том, к какому жанру его отнести: то в «авангард» запишут, то в «современный джаз». По сути, он сопоставим с разве что с такой фигурой как Джон Зорн – только последний добился большего успеха, продолжительнее играл, записал больше альбомов. Даже интересно, встречались ли они и, если да, то о чем говорили…
На этом, сравнительно позднем альбоме, мотивы легко совмещаются целые стили внезапно переходят в друг друга – и джаз временами оборачивается, ну, к примру, индастриэлом. Уже первая композиция «Донна Анна» открывается едва ли не фольклорными наигрышами – слишком многослойными, впрочем, для настоящего фолка… И тут, внезапно, он переходит в легендарную мелодию из «Воробьиной оратории», знакомую уважающим себя киноманам по «Господину оформителю». Возможно, это самая мистическая и «потусторонняя» композиция, когда-либо написанная русским автором.
А уже следующий трек начинается как механистическая, действительно индустриальная мелодия, которую могла бы наигрывать музыкальная шкатулка маньяка – и переходит в нечто, что мог бы играть зрелый King Crimson времен их увлечения джазовые экспериментами. При том, что индустриальная «репетативность» никуда не делась. Впрочем, «Аль-Кадбар буги» – самая длинная композиция на альбоме и еще не раз успеет преподнести сюрпризы. «Господин оформитель» на пару с донной Анной вернется еще и в композиции «Харе Кришна, донна Анна» – по сути, аранжировке все той же легендарной темы, но довольно необычной и любопытной. Вообще названия треков здесь – отдельная песня: юмор у «капитана» был специфический. К примеру, есть «Связанные одной пиццей» – явная пародия на популярную в те годы песню «Связанные одной цепью».
Словом, произведение это вышло многоплановое и мощное, но довольно требовательное к слушателю: музыка развивается, как ее заприхотнется, переходы резкие, стилистические контрасты на каждом шагу – и с непривычки психануть и счесть, что автор издевается – крайне нелегко. И, зная Курехина… в любой момент любое его произведение может обернуться розыгрышем, явным или нет. А розыгрыш может оказаться чем-то гораздо более серьезным. Словом, если у вас крепкие нервы и тренированный слух – попробуйте и, возможно, надолго останетесь в музыкальной вселенной одного из самых необычных русских композиторов. Василий Рузаков
Франсуа Дюбуа «Резня в день Святого Варфоломея», 1572−1584
Кантональный музей изящных искусств, Лозанна
Варфоломеевская ночь — массовое убийство гугенотов-протестантов в Париже, начавшееся в ночь на 24 aвгуста (праздник св. Варфоломея) 1572 года, во время бракосочетания лидера протестантов Генриха Наваррского с Маргаритой Валуа. Традиционно считается, что расправы были спровоцированы Екатериной Медичи, матерью французского короля Карла IX, под давлением итальянских советников, таких как Альбер де Гонди и Лодовико Гонзага. За сутки в Париже были убиты от двух до трех тысяч гугенотов, еще от 10 до 30 тысяч — за несколько дней в других городах Франции. По словам историков, Варфоломеевская ночь была одним из наиболее масштабных единовременных убийств в истории Западной Европы.
Варфоломеевская ночь глазами Франсуа Дюбуа
События французской истории, произошедшие в ночь святого Варфоломея, долгое время оставались для последующих поколений французов в некоторой степени terra incognita. События тогда в основном могли сохраняться в памяти путем передачи слухов и историй, интерпретируемых в зависимости от своих убеждений действующими лицами. Но сохранилась картина художника-протестанта Франсуа Дюбуа (1576–1584) — возможно, единственного из живописцев эпохи, откликнувшегося на трагедию. В Варфоломеевскую ночь он потерял всю свою семью. Свой замысел художник осуществил с исключительным реализмом. Например, он стремился к тому, чтобы эпоху можно было узнать по ее костюмам. В работе о Варфоломеевской ночи он использовал три главных цвета: католики на его полотне были в красном, гугеноты — в черном или в белом (в ночных рубашках, в которых их застали во время сна).
Сцену убийства Гаспара де Колиньи мастер представил в трех актах: безжизненное тело адмирала можно сначала видеть в окне, затем на мостовой, где его обезглавливают, а затем при сбрасывании его в Сену.
На картине видно, что подступы к Лувру охранялись солдатами. Так Дюбуа показывал, что пути к спасению у гугенотов не было. Рядом с Лувром видна фигура Екатерины Медичи в черном платье, а у ее ног — поверженные протестанты. Хоть она и не принимала участия в убийствах, но Дюбуа подчеркивает ее роль в этой трагедии, равно как и роль Карла IX. Историки эпохи считают, что именно черты короля художник хотел придать мужчине, который на его полотне стреляет в гугенотов из окна Лувра.
Погрешив против реальной топографии средневекового Парижа, художник сблизил здания и кварталы на своей картине, чтобы охватить весь город. Расправы, свидетельствует он, не избежал никто: ни старики, ни женщины, ни младенцы.