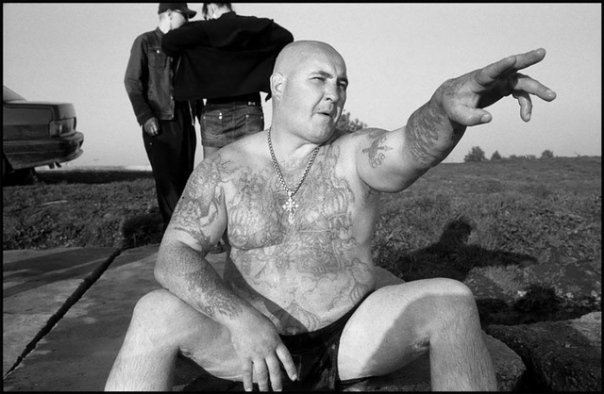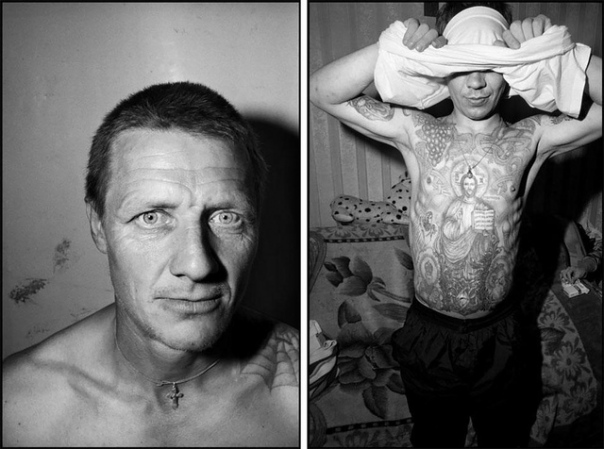Я не знаю имени этого товарища. Немец говорит, что он перед смертью спокойно курил. Честь ему и слава! И смерть его палачам! Не безразличье в нас, но страстная, неукротимая любовь к своему народу...
В газете «Ангрифф» от 2 апреля напечатаны размышления обер-лейтенанта Готтхагдта, озаглавленные «Народ без души». Обер-лейтенант провел несколько месяцев в захваченных областях России, и наши люди ему не понравились. Он пишет:
«То, что здесь не смеются, можно объяснить бедствием, но отсутствие слез действует ужасающе. Всюду и всегда мы наблюдаем упорное безразличье даже перед смертью. Безразличными люди остаются не только тогда, когда умирают их товарищи, но и когда речь идет об их собственной жизни. Одного приговорили к смерти. Он равнодушно выкурил папиросу... Разве это не ужасно? Откуда у этих людей берется сила упорно обороняться, постоянно атаковать? Это для меня загадка».
С какой гордостью мы читаем признания немецкого офицера! Он может быть думал, что наши девушки будут улыбаться немцам? Они отворачиваются. И немец ищет объяснения — почему русские не смеются? Он отвечает себе: трудно смеяться среди виселиц. Но вот девушку ведут к виселице, и она не плачет, у нее сухие суровые глаза. Обер-лейтенант думал, что она будет плакать. Он рассчитывал, что палачи насладятся ее страхом, ее слабостью, ее слезами. Но заповедное сокровище — русские слезы: они не для презренных гитлеровцев. Щедра наша земля и щедры наши люди, они презирают скупость, и только в одном случае слово «скупая» русские произносят с одобрением: «скупая слеза» — может быть одна, самая страшная, слеза матери... Не дано немцам увидеть эти слезы. В темноте ночей плачут матери Киева и Минска, Одессы и Смоленска. А днем палачи видят сухие глаза и в них огонь ненависти.
Обер-лейтенант называет русскую выдержку «безразличье». Он думает, что если мы не терпим жизни под немецким сапогом, нам не мила жизнь. Туп немец, чванлив и слеп. Наши люди умели радоваться до того, как пришли к нам проклятые гитлеровцы. В апрельские вечера дивен был Киев. Как светляки, метались огоньки над Днепром. В садах уже распускались горькие почки и белели среди первой травы подснежники. По аллеям гуляли вузовцы, девушки, влюбленные, мечтатели. Они говорили о весне, о любви, об экзаменах, о жизни широкой, как Днепр. А разве плохо играли в футбол молодые рабочие Смоленска? Разве в Минске не писали стихи? Разве в древнем Новгороде мальчики не мечтали о полете в стратосферу? Разве мало было веселья в наших парках культуры? Разве мало было цветов на наших полях — и васильки, и маки, и колокольчики, и ромашка, а на ромашке можно было гадать «любит—не любит»... Захватчики думали заглянуть в нашу душу, увидать наши чувства. Но наглухо перед ними закрылись двери русской души. И ничего не остается обер-лейтенанту, как говорить о вашем «безразличьи».
Немец уверяет, что мы равнодушны к смерти наших товарищей. Кровь негодования приливает в голове, когда читаешь эти подлые строки. У каждого из нас погибли на войне близкие, друзья, товарищи. Перед нами их родные лица... Может стереться надпись на памятнике. Не сотрутся имена героев в нашей памяти: они выжжены человеческим горем. Почему мы так люто ненавидим гитлеровцев? Да потому что мы знаем, кого они загубили. Не слезами мы отвечаем на страшную весть о смерти друга — снарядом, гранатой, пулей. Почему мне ненавистен обер-лейтенант Готтхагдт? Да потому что я теперь знаю: он вместе с другими «приговорил к смерти», то-есть попросту замучил русского человека. Я не знаю имени этого товарища. Немец говорит, что он перед смертью спокойно курил. Честь ему и слава! И смерть его палачам! Не безразличье в нас, но страстная, неукротимая любовь к своему народу, к своей жизни и столь же страстная, столь же неукротимая ненависть к захватчикам, к обидчикам, к палачам.
Готтхагдт спрашивает: откуда у русских сила? Почему бойцы Красной Армии не отдали Москвы? Почему они идут на великие подвиги, стремясь освободить плененные немцами города? И ученый немец, сотрудник газеты, обер-лейтенант, наклонный к философии, отвечает: «Это для меня загадка». Еще бы — разве понять презренному вешателю силу русской души! Он знает, что можно идти в поход за нефтью, за трофейным салом, за русскими шубами. Это ему понятно. Он знает, что лейтенант должен, повиноваться обер-лейтенанту, а обер-лейтенант герру оберсту — это вошло в его сознание. Он знает, что Гитлер приказывает, а фриц стреляет. Но вот перед ним русский крестьянин, который убил немецкого офицера. Партизану никто не приказал идти на виселицу. Он подчинялся своей совести. Его вела любовь в родине. И это для немца «ужасно».
Такого Готтхагдта научили писать статьи и стрелять из различных пулеметов, кричать «хайль Гитлер» и распознавать сорта шампанского. Из него сделали подобье человека, и это ничтожное подобье восклицает: «Я не понимаю, почему люди идут на смерть?» Он не понимает, почему человек это—человек, а не гитлеровская тварь. Бездушный палач, он уверяет, что у нашего народа нет души. Он умеет читать по-немецки. Может быть он шпион, тогда его научили читать и по-русски. Он различает буквы нашей азбуки. Но есть книга, написанная для него на непонятном языке: это душа нашего народа. Великая душа! Она в каждом русском слове, в каждом взгляде, в каждой травинке. Она теперь возмущена, она бушует, как море в непогоду. Она в каждом выстреле русской винтовки. Она в грохоте орудий, в жужжании моторов. Она в легком шорохе, когда ползут по земле наши разведчики. Она в грозном «ура», и она в грозном молчания — за час до боя, за день или за месяц до великих весенних битв.
Илья Эренбург
мимимими
Другие записи сообщества
Албина Мали-Хочевар родилась в сентябре 1925 года в многодетной рабочей семье в городе Винице, рядом с Чрномлем.
Отец зарабатывал на жизнь, создавая и продавая национальную кожаную обувь южных славян, один из элементов сербской национальной одежды. Мать была простой работницей.
Когда Альбина подросла, её семья переехала в город Чрномель. Там она начала учиться в местной школе, но проучилась только до третьего класса. В 1934 году её отец заболел, и семья переехала в соседнее поселение, где он вскоре умер. Альбине пришлось бросить учёбу и начать работать, чтобы поддерживать семью. Она работала в нескольких населённых пунктах рядом с нынешним сербским городом Ново-Место, а затем переехала в Брезово Ребро, где закончила Айдовецкую школу в 1941 году.
В 1941 году страны Оси вторглись в Югославию. За короткий период Югославской операции с 6 по 18 апреля 1941 года территория Королевства Югославии была разделена между Италией, Венгрией и Болгарией, а также были созданы три государственных протектората: Недичевская Сербия, Королевство Черногория и Независимое государство Хорватия.
С начала войны Альбина примкнула к Народно-освободительным партизанским отрядам Югославии, которые начали действовать с июня 1941 года. Она познакомилась с партийным активистом Германом Хенингманом, который поручал ей различные задачи. Зимой 1941 года она организовала в городе Ново-Место подпольный пункт для распространения листовок. Несколько месяцев спустя её отправили в город Чешче Вас, где она продолжила ту же деятельность, поддерживая связь с подпольными партизанскими организациями Пречны, Брезово Ребро и Ново-Места.
В 1942 году Альбину приняли в Союз Коммунистической молодёжи Югославии, а в декабре того же года она стала бойцом Первой словенской пролетарской ударной бригады «Тоне Томшич». Там она работала фельдшером и батальонным секретарём СКМЮ.
Альбина неоднократно участвовала в боевых действиях: в декабре 1942 года на юго-востоке Югославии, с 1943 года — близ городов Чатеж и Шентвид. Первое ранение она получила в семнадцатилетнем возрасте. В январе 1943 года она участвовала в нападении на крепость словенских профашистов около Загорицы. В марте 1943 года она участвовала в битве при Метлике, где также оказывала помощь раненым. В сентябре 1943 года, в битвах близ Велики Осолника, Альбина снова была ранена при подрыве на противопехотной мине. После выздоровления, в 1944 году, она стала членом Коммунистической партии Югославии. Затем она снова участвовала в боях в составе партизанских отрядов на юго-востоке Югославии, в регионе Белой Крайны. С мая по июль 1944 года она проходила партийную школу близ Кочевье, затем её направили в Южную Италию, где она занималась транспортировкой раненых в городах Гравина, Барлета и Бари.
За всю войну Альбина получила три ранения, одно из которых изуродовало её внешность.
В послевоенные годы она работала партийным секретарём. В январе 2001 года, в возрасте 75 лет, Альбина скончалась. За время Второй мировой войны она была награждена Орденом национального героя Социалистической Федеративной Республики Югославия, Орденом партизанской звезды и Партизанским памятным знаком 1941 года.
мимимими
«Последний еврей Винницы»
Немецкий солдат направляет пистолет на голову неизвестного еврея, стоящего на краю ямы с телами ранее убитых соотечественников. Винница, УССР. Вероятно, 1942 год.
Еврей осознает, что его смерть неизбежна, что его смерть будет быстрой, что сила выстрела столкнет его тело с простреленным затылком в ров, и его тело упадет на тела мужчин, женщин и детей Винницы, его близких, родных, друзей
Однако выражение лица этого неизвестного еврея за мгновение до смерти показывает не ужас, а отвращение, отвращение к тому, что с ним делают, кто это делает, и к тому, что эти люди могут не только делать это, но и наблюдать за этим
Комментарий одного из многих журналов, опубликовавших это изображение
Фотография является одной из самых известных и часто публикуемых на тему Холокоста, вызывая у зрителя ужас, шок и жалость к жертвам нацизма, при этом, возможно, сделанной соучастником нацистских преступлений, а не их разоблачителем из числа союзников
мимимими
15 октября 1959 года в одну из мюнхенских больниц поступил мертвец с черепной травмой.
По документам — Штефан Попель, гражданин ФРГ. Врачи заподозрили что-то неладное из-за найденного у покойника пистолета. Следствие быстро выяснило, что под именем Попеля скрывался Стефан (Степан) Бандера, а смерть, вероятно, наступила из-за отравления цианистым калием
Всё началось 1 января 1909 года в тихом австро-венгерском городе Лемберге, ныне Львов. В этот морозный день в семье униатского священника родился будущий террорист. Вопрос национальных меньшинств обострился после Первой мировой, когда Львовщина стала частью Польши. В 1922 году Степан вступил в Союз украинской националистической молодежи, а в 1929-м — в Организацию украинских националистов (ОУН), с которой связал всю свою жизнь. В первые ряды оуновцев он выдвинулся благодаря своим пропагандистским способностям, но также участвовал в силовых акциях. Например, в 1934 году Бандера был одним из организаторов убийства министра внутренних дел Польши Бронислава Перацкого
Его арестовали и приговорили к высшей мере наказания, но казнь заменили пожизненным заключением. Возможно, позже поляки пожалели об этом решении... Пока Бандера сидел в тюрьмах, он стал легендой среди галицийских националистов
Вскоре после того, как немцы в 1939 году разгромили Польшу, Бандера оказался на свободе
Он ликовал, когда Германия вторглась в СССР и началась война, в которой вермахт надеялся на быстрый успех. Немцы рвались к Москве, сметая всё на своем пути, а Бандера мог действовать сразу на двух фронтах — против поляков и «советофилов». Батальон «Нахтигаль» вошел во Львов вместе с вермахтом и занялся карательными операциями. Бандеровцы убивали поляков и евреев, уничтожали тех, кого подозревали в сотрудничестве с советской властью. Их действия были выгодны оккупантам, а бандеровские лидеры считали, что такие акции сплачивают. Однако немцы держали бандеровцев на коротком поводке в вопросах независимости
Сам Бандера не вызывал полного доверия у германских властей как слишком беспокойный и нервный клиент. Почти два года он провел в концентрационном лагере Заксенхаузен в сносных условиях. Его берегли как потенциального агента, понимая, что он может пригодиться. Было бы наивно считать, что он из лагеря управлял своими оуновцами. Но их называли бандеровцами, потому что символом борьбы за независимость оставался именно он. Боевики, действовавшие независимо от «главного проводника», поддерживали эту легенду. Такая популярность повышала бандеровское реноме в глазах немцев. Пока он сидел, возникла «Украинская повстанческая армия» — УПА, которая формально не одобряла немецкую оккупацию, но воевала против советских партизан и польских антифашистов. Например, Волынская резня 1943 года, когда убили более 30 тыс. поляков, в основном стариков, женщин и детей
Миллионы украинцев сражались под красными знаменами, били гитлеровцев и бандеровцев, героически погибали. Было ясно, что за ними сила. Тогда Бандеру и выпустили. Он занялся подготовкой диверсионных групп и вскоре формально возглавил УПА и ОУН, хотя не смог надежно контролировать эти организации. Он не обладал качествами лидера и не смог объединить разные фракции украинского национализма. В каждой группировке был свой атаман или гетман
В 1944 году дело Гитлера было обречено, это понимали и украинские нацисты. Но «повстанцы» осознавали, что без германской военной машины их ждет гибель. О массовой поддержке в народе они могли только мечтать и продолжали служить оккупантам. В последние месяцы войны это сотрудничество усилилось. Оуновцы старались затруднить освобождение Украины. Борьба с партизанами, жестокие расправы над крестьянами — при этом сам Бандера находился в стороне, на безопасном расстоянии от событий. Он был идеологом, а не бойцом
До сих пор «охранной грамотой» для ОУН и УПА считается тот факт, что на Нюрнбергском процессе абвер не был признан преступной организацией. Это слабое оправдание. Военная разведка Третьего рейха была инструментом НСДАП. Отделить абвер от гитлеровской системы невозможно
После краха нацистской Германии оуновское подполье быстро нашло новых покровителей. Бандера понимал, что в СССР ему нет пощады. Оставался выбор — поступить на службу к тем, кто боялся советской гегемонии, или погибнуть в схватке. Он выбрал первое
Весной 1945 года он оказался в Германии, в американской зоне оккупации. Бывших союзников СССР не смутило его сотрудничество с рейхом. В условиях холодной войны Запад решил использовать Бандеру
Под крылом британских спецслужб в 1946 году он создал «Провод закордонных частей ОУН» с отделениями в нескольких странах Европы и США. Кровавый след потянулся в Советский Союз... Органы госбезопасности действовали против украинского подполья изобретательно. Внедренных агентов среди повстанцев хватало, и сведения о деятельности Бандеры поступали на площадь Дзержинского без задержек. В советской разведке не было единого мнения о необходимости ликвидировать Бандеру. В окружении мюнхенского украинца преобладали двойные агенты — и в МГБ считали, что удобнее манипулировать амбициозным «вождем»
На ликвидации настояло партийное руководство, в частности Никита Хрущев, имевший к Бандере личные счеты с фронтовых времен. Ведь с деятельностью Бандеры и его пособников связывали нападение на генерала Николая Ватутина 29 февраля 1944 года, когда диверсанты из УПА смертельно ранили командующего 1-м Украинским фронтом
В 1949 году Верховный суд СССР заочно приговорил Бандеру к смертной казни. А примерно через год советские контрразведчики завербовали девятнадцатилетнего студента Львовского педагогического института Богдана Сташинского, связанного через родственников с оуновским подпольем. Вскоре он успешно выполнил первое задание, а затем, пройдя курс обучения в разведшколе, ликвидировал в 1957 году в Мюнхене одного из лидеров ОУН за рубежом, главного редактора журнала «Український самостійник» Льва Ребета
В 1959 году Сташинский снова прибыл в Мюнхен, с документами на имя Ганса Будайта. Ему удалось установить место жительства Бандеры. Как и при ликвидации Ребета, планировалось использовать спецоружие — пистолет с ампулами цианистого калия. После выстрела воздух наполнялся ядовитыми испарениями. Сердце останавливается в течение 5–10 минут — и никаких признаков насильственной смерти. Отравиться мог и сам стрелок, но ему выдали антидот. Уже в мае агент Олег (псевдоним Сташинского) попытался выполнить задание, но это было рискованно: лидера ОУН охраняли. Пистолет даже пришлось выбросить
После этого несколько месяцев разведчики следили за лидером ОУН, изучали его привычки... 15 октября Бандера впервые проявил беспечность: после прогулки он поставил в гараж Opel, отпустил охрану и один пошел в подъезд дома на Кройтмайерштрассе, 7. Там, возле лифта, его ждал Сташинский. Пистолет он прикрывал газетой. В холле раздался негромкий хлопок, Сташинский прицелился в лицо — и Бандера вдохнул смертельную дозу цианистого калия. Ликвидатор спокойно, не вызывая подозрений, вышел из дома
мимимими