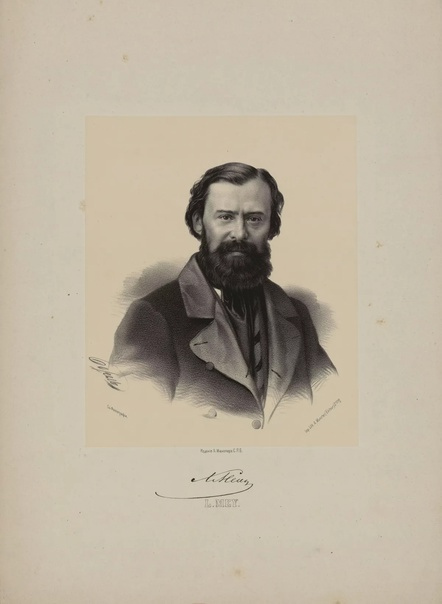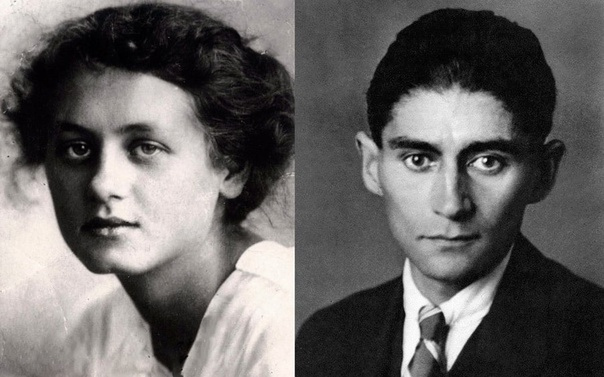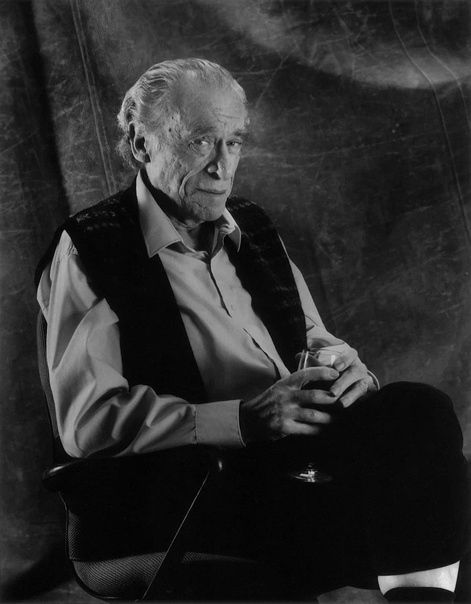Утомлённый, я терял надежды,
Подходила тёмная тоска.
Забелели чистые одежды,
Задрожала тихая рука.
«Ты ли здесь? Долина потонула
В безысходном, в непробудном сне…
Ты сошла, коснулась и вздохнула, —
День свободы завтра мне?» —
«Я сошла, с тобой до у́тра буду,
На рассвете твой покину сон,
Без следа исчезну, всё забуду, —
Ты проснёшься, вновь освобождён.
Александр Блок, 1 апреля 1902
Другие записи сообщества
Не знаю, отчего так грустно мне при ней?
Я не влюблен в нее: кто любит, тот тоскует,
Он болен, изнурен любовию своей,
Он день и ночь в огне — он плачет и ревнует…
И только… Отчего — не знаю. Оттго ли,
Что дума и у ней такой же просит воли,
Что сердце и у ней в таком же дремлет сне?
Иль от предчувствия, что некогда напрасно,
Но пылко мне ее придется полюбить?
Бог весть! А полюбить я не хотел бы страстно:
Мне лучше нравится — по-своему грустить.
Взгляните, вот она: небрежно локон вьется,
Спокойно дышит грудь, ясна лазурь очей —
Она так хороша, так весело смеется…
Не знаю, отчего так грустно мне при ней?
Лев Мей
Милена Есенская о Франце Кафке
Он был застенчив, робок, нежен и добр, но писал ужасные и болезненные книги. Он видел мир, полный невидимых демонов, которые разрывают и уничтожают беззащитных людей. Он был слишком прозорлив и слишком мудр, чтобы жить; он был слишком слаб, чтобы бороться, у него была та слабость благородных, красивых людей, которые не способны бороться со страхом непонимания, недоброжелательности или интеллектуальной лжи. Такие люди заранее знают, что они бессильны, и терпят поражение так, что позорят победителя.
Он знал людей так, как могут знать их только люди большой чувствительности, как тот, кто одинок и видит людей почти пророчески, по одному мельканию лица. Он знал мир глубоко и необычайно. Он сам был глубоким и необыкновенным миром.
Продолговатый и твердый овал,
Черного платья раструбы…
Юная бабушка! Кто целовал
Ваши надменные губы?
Руки, которые в залах дворца
Вальсы Шопена играли…
По сторонам ледяного лица
Локоны, в виде спирали.
Темный, прямой и взыскательный взгляд.
Взгляд, к обороне готовый.
Юные женщины так не глядят.
Юная бабушка, кто вы?
Сколько возможностей вы унесли,
И невозможностей — сколько? —
В ненасытимую прорву земли,
Двадцатилетняя полька!
День был невинен, и ветер был свеж.
Темные звезды погасли.
— Бабушка! — Этот жестокий мятеж
В сердце моем — не от вас ли?..
Бабушке, Марина Цветаева
В 1985 году Чарльз Буковски, получив оповещение, что одна из его книг была удалена из библиотеки Неймегена, отправил ответ:
Спасибо за письмо, в котором вы мне рассказываете об изъятии моей книги. О том, что её обвиняют в дискриминации из-за чёрных людей, гомосексуалистов и женщин. И ещё в садизме из-за садизма.
Я же боюсь дискриминации против юмора и правды. Если я плохо пишу о чёрных, гомосексуалистах и женщинах, то лишь потому, что таковы те, с кем я встречался. “Плохого” много – плохие собаки, плохая цензура; есть даже “плохие” белые мужчины. Только когда пишешь о “плохих” белых мужчинах, они на это не жалуются. И нужно ли мне говорить, что существуют “хорошие” чёрные, “хорошие” гомосексуалисты и “хорошие” женщины?
Это моя работа как писателя, я лишь фотографирую, словами, то, что вижу. Если я пишу о “садизме”, то потому, что он существует. Не я его изобрел, и если в моём произведении случается какое-то ужасное действие, это потому, что такие вещи происходят у нас в жизни, я не стою на стороне зла.
Цензура – орудие тех, кому необходимо прятать действительность от самих себя и от других. Их страх – лишь неспособность справиться с тем, что реально, и я не могу на них злиться, мне лишь как-то отвратительно грустно. Где-то, пока воспитывали, их уберегали от фактов нашего существования. Их учили смотреть в одну сторону, а существует множество.
О,високосный год-проклятый год!
Как мы о нём беспечно забываем
И доверяем жизни хрупкий ход
Всё тем же пароходам и трамваям.
А между тем в злосчастный этот год
Нас изучает пристальная линза,
Из тысяч лиц-не тот...,не тот...,не тот,
Отдельные выхватывая лица.
И некая верховная рука,
В чьей воле все кончины и отсрочки,
Раздвинув над толпою облака,
Выхватывает нас поодиночке.
А мы бежим,торопимся,снуем,
Причин спешить и впрямь довольно много
И вдруг о смерти друга узнаем,
Наткнувшись на колонку некролога.
И стоя в переполненном метро,
Готовимся увидеть это въяве:
Вот он лежит,лицо его мертво.
Вот он в гробу. Вот он в могильной яме...
Переменив прописку и родство,
Он с Ангелами топчет звёздный гравий
И всё что нам осталось от него,
С полдюжины случайных фотографий.
Случись мы рядом с ним в тот жуткий миг
И смерть бы проиграла в поединке...
Она б его взяла за воротник,
А мы бы ухватились за ботинки.
Но что тут толковать,коль пробил час!
Слова отныне мало что решают,
И, сказанные десять тысяч раз,
Они друзей,увы, не воскрешают.
Ужасный год!...Кого теперь винить?
Погоду ли с её дождём и градом?
Жить можно врозь и даже не звонить,
Но в високосный год держаться рядом.
Леонид Филатов
Она была во всем права -
И даже в том, что сделала.
А он сидел, дышал едва,
И были губы белые.
И были черные глаза,
И были руки синие.
И были черные глаза
Пустынными пустынями.
Пустынный двор жестоких лет,
Пустырь, фонарь и улица.
И переулок, как скелет,
И дом подъездом жмурится.
И музыка ее шагов
Схлестнулась с подворотнею,
И музыка ее шагов -
Таблеткой приворотною.
И стала пятаком луна,
Подруга полумесяца,
Когда потом ушла она,
А он решил повеситься.
И шантажом гремела ночь,
Улыбочкой приправленным.
И шантажом гремела ночь
И пустырем отравленным.
И лестью падала трава,
И местью встала выросшей.
И ото всех его бравад
Остался лишь пупырышек.
Сезон прошел, прошел другой -
И снова снег на паперти.
Сезон прошел, прошел другой -
Звенит бубенчик капелькой.
И заоконная метель,
И лампа - желтой дынею.
А он все пел, все пел, все пел,
Наказанный гордынею.
Наказан скупостью своей,
Устал себя оправдывать.
Наказан скупостью своей
И страхом перед правдою.
Устал считать улыбку злом,
А доброту - смущением.
Устал считать себя козлом
Любого отпущения.
Двенадцать падает. Пора!
Дорога в темень шастает.
Двенадцать падает. Пора!
Забудь меня, глазастого!
Михаил Леонидович Анчаров
Письма к сыну Евгения Леонова
Андрюша, ты люби меня, как я люблю тебя. Ты знаешь, это какое богатство – любовь. Правда, некоторые считают, что моя любовь какая-то не такая и от нее, мол, один вред. А может, на самом деле моя любовь помешала тебе быть примерным школьником? Ведь я ни разу так и не выпорол тебя за все девять школьных лет.
Помнишь, ты строил рожи у доски, класс хохотал, а учительница потом долго мне выговаривала. Вид у меня был трижды виноватого, точно я стою в углу, а она меня отчитывает как мальчишку. Я уже готов на любые унижения, а ей все мало: «Ведь урок сорван… – ведь мы не занимаемся полноценно сорок пять минут.. – ведь сам ничего не знает и другим учиться не дает… – ведь придется вам его из школы забрать… – ведь слова на него не действуют…»
Пропотели рубашка, пиджак и мокасины, а она все не унималась. «Ну, думаю, дам сегодня затрещину, всё!» С этими мыслями пересекаю школьный двор и выхожу на Комсомольский проспект. От волнения не могу сесть ни в такси, ни в троллейбус, так и иду пешком… Женщина тащит тяжелую сумку, ребенок плачет, увидев меня, улыбается, спиной слышу, мать говорит: «Вот и Винни Пух над тобой смеется…»
Незнакомый человек здоровается со мной… Осенний ветерок обдувает меня. Подхожу к дому с чувством, что принял на себя удар, и ладно. Вхожу в дом, окончательно забыв про затрещину, а увидев тебя, спрашиваю: «Что за рожи ты там строил, что всем понравилось, покажи-ка». И мы хохочем.
И так до следующего вызова. Мать не идет в школу. А я лежу и думаю: хоть бы ночью вызвали на съемку в другой город или с репетиции не отпустили бы… Но Ванда утром плачет, и я отменяю вылет, отпрашиваюсь с репетиции, я бегу в школу занять свою позицию в углу. Какие только мелочи достойны наших переживаний…
Я оттого и пишу эти письма, чтобы исправить что-то неправильное, и выгляжу, наверное, смешным и нелепым, как некоторые мои персонажи. Но ведь это я! В сущности, дружочек, ничего нет проще живой тревоги отцовского сердца.
Когда я один, вне дома, тоскуя, вспоминаю каждое твое слово и каждый вопрос, мне хочется бесконечно с тобой разговаривать, кажется, и жизни не хватит обо всем поговорить. Но знаешь, что самое главное, я это понял после смерти своей мамы, нашей бабушки. Эх, Андрюша, есть ли в твоей жизни человек, перед которым ты не боишься быть маленьким, глупым, безоружным, во всей наготе своего откровения? Этот человек и есть твоя защита. А я уже скоро буду дома.
Отец.
Утром в ржаном закуте,
Где златятся рогожи в ряд,
Семерых ощенила сука,
Рыжих семерых щенят.
До вечера она их ласкала,
Причесывая языком,
И струился снежок подталый
Под теплым ее животом.
А вечером, когда куры
Обсиживают шесток,
Вышел хозяин хмурый,
Семерых всех поклал в мешок.
По сугробам она бежала,
Поспевая за ним бежать...
И так долго, долго дрожала
Воды незамерзшей гладь.
А когда чуть плелась обратно,
Слизывая пот с боков,
Показался ей месяц над хатой
Одним из ее щенков.
В синюю высь звонко
Глядела она, скуля,
А месяц скользил тонкий
И скрылся за холм в полях.
И глухо, как от подачки,
Когда бросят ей камень в смех,
Покатились глаза собачьи
Золотыми звездами в снег.
Сергей Есенин
Снег идет, снег идет.
К белым звездочкам в буране
Тянутся цветы герани
За оконный переплет.
Снег идет, и все в смятеньи,
Bсе пускается в полет, —
Черной лестницы ступени,
Перекрестка поворот.
Снег идет, снег идет,
Словно падают не хлопья,
А в заплатанном салопе
Сходит наземь небосвод.
Словно с видом чудака,
С верхней лестничной площадки,
Крадучись, играя в прятки,
Сходит небо с чердака.
Потому что жизнь не ждет.
Не оглянешься — и Святки.
Только промежуток краткий,
Смотришь, там и новый год.
Снег идет, густой-густой.
В ногу с ним, стопами теми,
В том же темпе, с ленью той
Или с той же быстротой,
Может быть, проходит время?
Может быть, за годом год
Следуют, как снег идет,
Или как слова в поэме?
Снег идет, снег идет,
Снег идет, и все в смятеньи:
Убеленный пешеход,
Удивленные растенья,
Перекрестка поворот.
Борис Пастернак, 1957