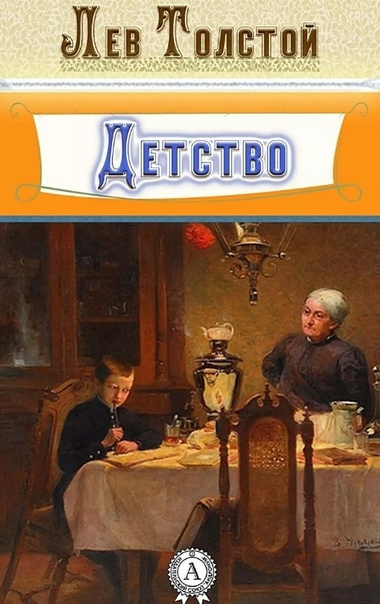Иван Бунин
ХОЛОДНАЯ ОСЕНЬ
В июне того года он гостил у нас в имении — всегда считался у нас своим человеком: покойный отец его был другом и соседом моего отца. Пятнадцатого июня убили в Сараеве Фердинанда. Утром шестнадцатого привезли с почты газеты. Отец вышел из кабинета с московской вечерней газетой в руках в столовую, где он, мама и я еще сидели за чайным столом, и сказал:
— Ну, друзья мои, война! В Сараеве убит австрийский кронпринц. Это война!
На Петров день к нам съехалось много народу, — были именины отца, — и за обедом он был объявлен моим женихом. Но девятнадцатого июля Германия объявила России войну...
В сентябре он приехал к нам всего на сутки — проститься перед отъездом на фронт (все тогда думали, что война кончится скоро, и свадьба наша была отложена до весны). И вот настал наш прощальный вечер. После ужина подали, по обыкновению, самовар, и, посмотрев на запотевшие от его пара окна, отец сказал:
— Удивительно ранняя и холодная осень!
Мы в тот вечер сидели тихо, лишь изредка обменивались незначительными словами, преувеличенно спокойными, скрывая свои тайные мысли и чувства. С притворной простотой сказал отец и про осень. Я подошла к балконной двери и протерла стекло платком: в саду, на черном небе, ярко и остро сверкали чистые ледяные звезды. Отец курил, откинувшись в кресло, рассеянно глядя на висевшую над столом жаркую лампу, мама, в очках, старательно зашивала под ее светом маленький шелковый мешочек, — мы знали какой, — и это было трогательно и жутко. Отец спросил:
— Так ты все-таки хочешь ехать утром, а не после завтрака?
— Да, если позволите, утром, — ответил он. — Очень грустно, но я еще не совсем распорядился по дому.
Отец легонько вздохнул:
— Ну, как хочешь, душа моя. Только в этом случае нам с мамой пора спать, мы непременно хотим проводить тебя завтра...
Мама встала и перекрестила своего будущего сына, он склонился к ее руке, потом к руке отца. Оставшись одни, мы еще немного побыли в столовой, — я вздумала раскладывать пасьянс, — он молча ходил из угла в угол, потом спросил:
— Хочешь, пройдемся немного?
На душе у меня делалось все тяжелее, я безразлично отозвалась:
— Хорошо...
Одеваясь в прихожей, он продолжал что-то думать, с милой усмешкой вспомнил стихи Фета:
Какая холодная осень!
Надень свою шаль и капот...
— Капота нет, — сказала я. — А как дальше?
— Не помню. Кажется, так:
Смотри — меж чернеющих сосен
Как будто пожар восстает...
— Какой пожар?
— Восход луны, конечно. Есть какая-то деревенская осенняя прелесть в этих стихах: «Надень свою шаль и капот...» Времена наших дедушек и бабушек... Ах, боже мой, боже мой!
— Что ты?
— Ничего, милый друг. Все-таки грустно. Грустно и хорошо. Я очень, очень люблю тебя...
Одевшись, мы прошли через столовую на балкон, сошли в сад. Сперва было так темно, что я держалась за его рукав. Потом стали обозначаться в светлеющем небе черные сучья, осыпанные минерально блестящими звездами. Он, приостановясь, обернулся к дому:
— Посмотри, как совсем особенно, по-осеннему светят окна дома. Буду жив, вечно буду помнить этот вечер...
Я посмотрела, и он обнял меня в моей швейцарской накидке. Я отвела от лица пуховый платок, слегка отклонила голову, чтобы он поцеловал меня. Поцеловав, он посмотрел мне в лицо.
— Как блестят глаза, — сказал он. — Тебе не холодно? Воздух совсем зимний. Если меня убьют, ты все-таки не сразу забудешь меня?
Я подумала: «А вдруг правда убьют? и неужели я все-таки забуду его в какой-то короткий срок — ведь все в конце концов забывается?» И поспешно ответила, испугавшись своей мысли:
— Не говори так! Я не переживу твоей смерти!
Он, помолчав, медленно выговорил:
— Ну что ж, если убьют, я буду ждать тебя там. Ты поживи, порадуйся на свете, потом приходи ко мне.
Я горько заплакала...
Утром он уехал. Мама надела ему на шею тот роковой мешочек, что зашивала вечером, — в нем был золотой образок, который носили на войне ее отец и дед, — и мы перекрестили его с каким-то порывистым отчаянием. Глядя ему вслед, постояли на крыльце в том отупении, которое всегда бывает, когда проводишь кого-нибудь на долгую разлуку, чувствуя только удивительную несовместность между нами и окружавшим нас радостным, солнечным, сверкающим изморозью на траве утром. Постояв, вошли в опустевший дом. Я пошла по комнатам, заложив руки за спину, не зная, что теперь делать с собой и зарыдать ли мне или запеть во весь голос...
Убили его — какое странное слово! — через месяц, в Галиции. И вот прошло с тех пор целых тридцать лет. И многое, многое пережито было за эти годы, кажущиеся такими долгими, когда внимательно думаешь о них, перебираешь в памяти все то волшебное, непонятное, непостижимое ни умом, ни сердцем, что называется прошлым. Весной восемнадцатого года, когда ни отца, ни матери уже не было в живых, я жила в Москве, в подвале у торговки на Смоленском рынке, которая все издевалась надо мной: «Ну, ваше сиятельство, как ваши обстоятельства?» Я тоже занималась торговлей, продавала, как многие продавали тогда, солдатам в папахах и расстегнутых шинелях кое-что из оставшегося у меня, — то какое-нибудь колечко, то крестик, то меховой воротник, побитый молью, и вот тут, торгуя на углу Арбата и рынка, встретила человека редкой, прекрасной души, пожилого военного в отставке, за которого вскоре вышла замуж и с которым уехала в апреле в Екатеринодар. Ехали мы туда с ним и его племянником, мальчиком лет семнадцати, тоже пробиравшимся к добровольцам, чуть не две недели, — я бабой, в лаптях, он в истертом казачьем зипуне, с отпущенной черной с проседью бородой, — и пробыли на Дону и на Кубани больше двух лет. Зимой, в ураган, отплыли с несметной толпой прочих беженцев из Новороссийска в Турцию, и на пути, в море, муж мой умер в тифу. Близких у меня осталось после того на всем свете только трое: племянник мужа, его молоденькая жена и их девочка, ребенок семи месяцев. Но и племянник с женой уплыли через некоторое время в Крым, к Врангелю, оставив ребенка на моих руках. Там они и пропали без вести. А я еще долго жила в Константинополе, зарабатывая на себя и на девочку очень тяжелым черным трудом. Потом, как многие, где только не скиталась я с ней! Болгария, Сербия, Чехия, Бельгия, Париж, Ницца... Девочка давно выросла, осталась в Париже, стала совсем француженкой, очень миленькой и совершенно равнодушной ко мне, служила в шоколадном магазине возле Мадлэн, холеными ручками с серебряными ноготками завертывала коробки в атласную бумагу и завязывала их золотыми шнурочками; а я жила и все еще живу в Ницце чем бог пошлет... Была я в Ницце в первый раз в девятьсот двенадцатом году — и могла ли думать в те счастливые дни, чем некогда станет она для меня!
Так и пережила я его смерть, опрометчиво сказав когда-то, что я не переживу ее. Но, вспоминая все то, что я пережила с тех пор, всегда спрашиваю себя: да, а что же все-таки было в моей жизни? И отвечаю себе: только тот холодный осенний вечер. Ужели он был когда-то? Все-таки был. И это все, что было в моей жизни — остальное ненужный сон. И я верю, горячо верю: где-то там он ждет меня — с той же любовью и молодостью, как в тот вечер. «Ты поживи, порадуйся на свете, потом приходи ко мне...» Я пожила, порадовалась, теперь уже скоро приду.
3 мая 1944
#ИванБунин #ХолоднаяОсень #ПоЧИТАТЕЛИкниг
Другие записи сообщества
Павел Коган
Снова осень проходит скверами,
Клены старые золотя,
Снова мне, ни во что не веруя,
По чужим проходить путям.
Снова мне, закусивши губы,
Без надежды чего-то ждать,
Притворяться веселым и грубым,
Плакать, биться и тосковать.
И опять, устав от тревоги,
Улыбаясь покорно: «Пусть»,
Принимать за свое дороги,
Тишь, туманы, тоску и грусть.
И опять, затворяя двери,
Понимая, что это ложь,
Хоть немножко,
Хоть капельку верить
В то, что где-нибудь ты живешь.
1936
(художник Алексей Савченко)
#ПавелКоган #осень #ПоЧИТАТЕЛИкниг
Первое произведение Льва Николаевича Толстого
18 сентября 1852 года в девятом номере журнала «Современник» появилось первое произведение Льва Толстого – повесть «Детство», опубликованная под названием «История моего детства» (позднее вошедшая в трилогию «Детство. Отрочество. Юность»). и за подписью «Л. Н.».
«12 августа 18..., ровно в третий день после дня моего рождения, в который мне минуло десять лет и в который я получил такие чудесные подарки, в семь часов утра — Карл Иваныч разбудил меня, ударив над самой моей головой хлопушкой — из сахарной бумаги на палке — по мухе. Он сделал это так неловко, что задел образок моего ангела, висевший на дубовой спинке кровати, и что убитая муха упала мне прямо на голову. Я высунул нос из-под одеяла, остановил рукою образок, который продолжал качаться, скинул убитую муху на пол и хотя заспанными, но сердитыми глазами окинул Карла Иваныча. Он же, в пестром ваточном халате, подпоясанном поясом из той же материи, в красной вязаной ермолке с кисточкой и в мягких козловых сапогах, продолжал ходить около стен, прицеливаться и хлопать.»
#ЛевТолстой #Детство #ПоЧИТАТЕЛИкниг
18 сентября 1698 в Бастилию перевели самого таинственного в истории заключенного, чье лицо никто не увидел даже после его смерти. Он вошел в историю как «человек в железной маске».
На самом деле узник был в бархатной (не в железной) маске. Железной маску «сделали» литераторы.
Никто не знал его имени, выдвинутого против него обвинения, и под страхом смерти не имел права общаться с ним. Когда пять лет спустя узник умер, его похоронили под вымышленным именем, вымыли и выскоблили все стены помещения, в котором он сидел, уничтожили всю мебель и выложили пол новой плиткой, чтобы ненароком не проглядеть оставленных им надписей. Тайна рождала домыслы, скоро превратившиеся в легенду.
Франсуа Вольтер в своем произведении «Век Людовика XIV», написанном в 1751 году, впервые указал, что Железной Маской вполне мог быть брат-близнец Короля-солнце. Чтобы не возникло проблем с престолонаследием, одного из мальчиков воспитывали тайно. Когда же Людовик XIV узнал о существовании брата, то обрек его на вечное заточение.
Подхваченная писателем Александром Дюма-отцом и не раз воплощенная на экране после рождения кинематографа, эта версия стала доминирующей в глазах обывателя.
#человеквжелезноймаске #ПоЧИТАТЕЛИкниг
Юрий Левитанский
Горящими листьями пахнет в саду.
Прощайте,
я больше сюда не приду.
Дымится бумага,
чернеют листы.
Сжигаю мосты.
Чернеют листы,
тяжелеет рука.
Бикфордовым шнуром
дымится строка.
Последние листья,
деревья пусты.
Сжигаю мосты.
Прощайте,
прощальный свершаю обряд.
Осенние листья,
как порох,
горят.
И капли на стеклах,
как слезы,
чисты.
Сжигаю мосты.
Я больше уже не приду в этот сад.
Иду,
чтоб уже не вернуться назад.
До ранней,
зеленой,
последней звезды
сжигаю мосты.
1970
(художник Виктор Брагинский)
#ЮрийЛевитанский #ПоЧИТАТЕЛИкниг.
Осип Мандельштам
Дождик ласковый, мелкий и тонкий,
Осторожный, колючий, слепой,
Капли строгие скупы и звонки,
И отточен их звук тишиной.
То — так счастливы счастием скромным,
Что упасть на стекло удалось;
То, как будто подхвачены темным
Ветром, струи уносятся вкось.
Тайный ропот, мольба о прощеньи:
Я люблю непонятный язык!
И сольются в одном ощущеньи
Вся жестокость, вся кротость на миг.
В цепких лапах у царственной скуки
Сердце сжалось, как маленький мяч:
Полон музыки, Музы и муки
Жизни тающей сладостный плач!
1911
(художник Олег Молчанов)
#ОсипМандельштам #ПоЧИТАТЕЛИкниг
И с каждой осенью я расцветаю вновь;
Здоровью моему полезен русской холод;
К привычкам бытия вновь чувствую любовь:
Чредой слетает сон, чредой находит голод;
Легко и радостно играет в сердце кровь,
Желания кипят — я снова счастлив, молод,
Я снова жизни полн — таков мой организм...
Александр Сергеевич Пушкин
(художник Николай Репин «Осень в Михайловском», 1999)
#Пушкин #осень #ПоЧИТАТЕЛИкниг
Игорь Северянин
Будь спокойна, моя деликатная,
Робко любящая и любимая:
Ты ведь осень моя ароматная,
Нежно-грустная, необходимая…
Лишь в тебе нахожу исцеление
Для души моей обезвопросенной
И весною своею осеннею
Приникаю к твоей вешней осени…
(художник Edward Alfred Cucuel )
#ИгорьСеверянин #осень #ПоЧИТАТЕЛИкниг
12 сентября 1921 года родился Станислав ЛЕМ, польский писатель, фантаст
«Люди почему-то страдают о том, что после смерти их не будет. Но почему же они не страдают о том, что их не было до рождения?»
Станислав Лем был фантастом, сатириком, философом и футурологом. «Звёздные дневники Ийона Тихого», «Магелланово облако», «Возвращение со звёзд», «Мир на Земле» и, конечно же, «Солярис»! Его книги переведены более чем на 40 языков мира и разошлись тиражом в около 30 миллионов экземпляров.
В последние годы жизни основным занятием Станислава Лема стали футурологические прогнозы, к которым прислушивались серьезные международные организации.
Лем создал свою «Библиотеку XXI века», до отказа забитую выдуманными книгами и рецензиями на них.
#СтаниславЛем #ПоЧИТАТЕЛИкниг
Маргарита Алигер
Ирпень
У вас, наверно, осень хороша!
Легко откинув голову без шапки,
пройти бы мне аллеей, вороша
сухой листвы багряные охапки.
В прозрачный и трепещущий покой
доверчиво протягивая руки,
застыть бы над извилистой рекой,
заглядываясь в ясные излуки.
Блаженна медленность осенних рек.
Вода бежит, еще в ней краски живы,
но вся она уже, как человек,
утративший стремленья и порывы.
Я помню, как бродила тут весна
своей неощутимою походкой
и таяла, как легкий след весла,
никак не поспевающий за лодкой.
Закаты были проще и ясней,
неосторожно поджигали воду,
но были не страшны они весне,
могучему бесспорному восходу.
А нынче солнце медленно скользит,
рассеивая горестную ясность,
как будто издали ему грозит
ничем не отвратимая опасность.
И пусть уже не видно из-за хат,
в какие пропасти оно заходит,
но я, как осень, чувствую закат,
дрожащий в вечереющей природе.
(художник Александр Былич)
#МаргаритаАлигер #ПоЧИТАТЕЛИкниг